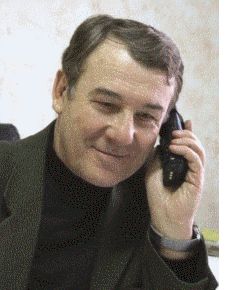Архив рубрики «АВТОРСКИЕ СТРАНИЦЫ»
|
Действующие лица: Александр Павлович, император Российский. Николай Павлович, великий князь, в дальнейшем царь Николай I. Михаил Павлович, великий князь, младший брат Александра и Николая. Мария Федоровна, вдовствующая императрица, их мать. Елисавета Алексеевна, императрица, супруга Александра I. Александра Федоровна, императрица, супруга Николая I. Волконский Петр Михайлович, князь, гофмаршал свиты императрицы. Дибич Иван Иванович, граф, начальник Генерального штаба. Бенкендорф Александр Христофорович, граф, начальник III отделения. Виллие Яков Васильевич, баронет, придворный лейб-хирург. Тарасов Дмитрий Константинович, личный врач Александра I. Соломко Афанасий Данилович, вагенмейстер, картограф царя. Анисимов, камердинер Александра I. Трубецкой, князь. Рылеев, поэт, управляющий Американо-Русской компанией. Булатов, полковник кавалерии. Якубович, отставной поручик. Колычева, помещица Нижегородской губернии. Софи. Кат полицейского участка города Красноуфимска. Александр Сергеевич Пушкин, первый поэт России, камер-юнкер двора. Солдаты, слуги, офицеры, придворные, горожане, паломники, крестьяне.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Таганрог, 19 ноября 1825 года.
Ложе императора повернуто головой к зрителям так, что видна одна его лысая голова. Вокруг него собрались самые близкие – супруга Елизавета Алексеевна, князь Волконский, граф Дибич, полковник Соломко, доктора Виллие и Тарасов. Царица едва сдерживает рыдания, Волконский придерживает ее за плечи. Остальные жмутся у стен, тихо переговариваются. Наконец, Волконский склоняется над Александром, медленно и осторожно накрывает лицо простыней. ВИЛЛИЕ. Кажется, все… Господи! Померкло солнце нашего Отечества… ВОЛКОНСКИЙ. Возьмите себя в руки, баронет. Ваша помощь как врача еще понадобится императрице. Граф, взгляните, что показывают часы на площади. ДИБИЧ (отворачивается к окну). Без четверти полдень. Впрочем, без десяти… Какая ужасная минута! ЛИЗЕ. Алекс! Почему ты ушел раньше меня? Почему не мог дождаться, когда меня не станет? Ведь первой должна была я… ВОЛКОНСКИЙ. Ваше величество, вам нельзя расстраиваться. Яков Васильевич, проводите государыню. Побудьте подле, дайте капли, что ли. ВИЛЛИЕ. Вы свидетель, князь, я делал все, что в моих силах. Он сам отказывался принимать лекарства! Впрочем, извольте, государыня Елисавета Алексеевна, я провожу. ЛИЗЕ. Я хочу подвязать ему челюсть своим платком. Так принято у нас в Германии… СОЛОМКО. Фрейлины и домашние хотели проститься… АНИСИМОВ. Ни-ни, никого не пускайте сюда! СОЛОМКО. Они здесь постоят. Отворяет дверь, за которой видны плачущие люди, приближенные и прислуга. Царица подходит к телу, откидывает простыню, повязывает платок, завязывает узлом на темени. Плач за дверью становится громче. ТАРАСОВ. На площади с утра стоят сотни… Надо им объявить. ВОЛКОНСКИЙ. Господа, в этот скорбный час каждый должен исполнить долг свой перед покойным государем. Ваше величество, вы мужественная женщина. Нам нужно прибрать тело. Обмыть, одеть в парадный мундир. А вы пока напишете письмо вдовствующей императрице Марии Феодоровне. ЛИЗЕ. Я сама теперь вдовствующая. Она потеряла лишь одного из сыновей, я же лишилась всего, что у меня было в России! ВОЛКОНСКИЙ. Крепитесь, Ваше величество. ЛИЗЕ. Петр Михайлович, голубчик, сделайте все, что должно. У него где-то здесь был список церемониала похорон бабки его Екатерины. Я случайно узнала… Очевидно, взял описание, чтобы воспользоваться, когда я умру. Да вот ему прежде пригодилось. Боже, что я говорю! ВОЛКОНСКИЙ. Все сделаем, как надо. ЛИЗЕ. Виллие, дайте руку. Нет, я не могу уйти! ТАРАСОВ. Господа, ради Бога, простите, что вмешиваюсь… Следует засвидетельствовать, что никакое врачебное пособие уже не поможет. (Откидывает простыню, заглядывает в зрачки, достает из-под простыни руку покойного, щупает пульс). Дыхание не прослушивается, зрачки остаются неподвижны. Пульсации сердца еще слышны, нитевидные и редкие. Господин Виллие, граф, князь, все удостоверьтесь. ВИЛЛИЕ (подходит ближе, но останавливается в трех шагах). Да-да… все признаки кончины налицо. За дверью фрейлины и домашние заголосили. Анисимов прикрывает дверь. С царицей истерика, голосит на немецком языке. Доктор Виллие и камердинер Анисимов уводят ее из кабинета под руки. ВОЛКОНСКИЙ. Как главе генерального штаба, думаю, вам, граф, надлежит отправиться в Петербург немедленно со скорбной вестью. ДИБИЧ. Не лучше ли дождаться, когда доктора составят заключение? ТАРАСОВ. Оно будет готово лишь после вскрытия и анатомического обследования. На это уйдет дня два. ВОЛКОНСКИЙ. Мы вышлем заключение вдогонку, с курьером оно будет у вас еще до Санкт-Петербурга. Чтобы самим не объясняться, возьмите с собой Виллие. В качестве придворного лейб-хирурга тот лучше доложит императрице-матери Марии Феодоровне о случившемся. ДИБИЧ. А кто проведет вскрытие? ТАРАСОВ. Здесь есть хорошие специалисты. Доктора из Германии – Штоффреген и Рейнгольд могут произвести и бальзамирование. Привлечем коллег из Таганрога. ДИБИЧ. Мы ведь должны составить какой-то официальный документ? Извините, я человек новый при дворе, не владею формальностями. СОЛОМКО. Государь великой империи, обладатель пятидесяти миллионов душ, которому рукоплескала вся Европа! Кто мог подумать, что это случится в таком захолустье, на скромной походной постели. И вокруг – лишь десяток людей, способных оценить его величие! ВОЛКОНСКИЙ. И никого, кто мог бы, не теряя головы, действовать сообразно минуте. Дмитрий Константинович, можно вас попросить? Составьте, пожалуйста, с графом бумагу – государственный акт на кончину императора. Коротко и простым слогом. ТАРАСОВ. Думаю, следует написать так… «Император Александр Первый, 19-го ноября 1825 года, в десять часов и сорок семь минут, в городе Таганроге, скончался от горячки с воспалением мозга». Пожалуйте, граф ко мне. ВОЛКОНСКИЙ. У Дмитрия Константиновича не только ясный слог, но и великолепная каллиграфия, он может написать прямо набело. Мы все подпишем. ДИБИЧ. Кто выйдет к народу объявить о случившемся? ВОЛКОНСКИЙ. Вы – начальник генерального штаба! Я ведь всего гофмаршал в свите императрицы. ДИБИЧ. Хорошо, я выйду на площадь. ВОЛКОНСКИЙ. Пора. Дибич с Тарасовым выходят из кабинета, усаживаются в комнатке рядом. Волконский с Соломкой спешат в другую сторону. Некоторое время на сцене не происходит никакого движения. Потом со смертного ложа медленно поднимается голова. Александр стягивает с глаз простыню, оглядывает кабинет. Заслышав шаги, снова ложится. Крадучись появляется Анисимов с тазиком льда, через плечо несет белое белье и черные одежды. АНИСИМОВ (оглядывается, потом шепчет). Государь батюшка… Кормилец наш, Александр Павлович… Все ушли. Пожалуйте умыться. АЛЕКС. Спасибо, Геогорыч. Я сейчас. Александр встает, скидывает с головы платок царицы, снимает белый шлафрок, оставшись в короткой нагольной рубашке. В это время возвращаются Волконский с Соломкой, несут завернутое в простыню тело, кладут его на ложе. Александр кидает им свой шлафрок. Те пытаются натянуть его на затвердевший труп. Царь скрывается за ширмами, через некоторое время выглядывает оттуда. ВОЛКОНСКИЙ. Где рубище, Егорыч? Государь, Вам следует немедленно переодеться, чтобы вас не узнали. АЛЕКС. Все! Больше я не государь, зовите меня Федором Кузьмичом, как условились. Мне нужно пару минут, чтобы обтереться льдом. Страшно затекло все тело… СОЛОМКО. Не надо, пожалуйста. Возможно, простуда еще не прошла. АЛЕКС. Бросьте, полковник. Вы же знаете, что я здоров. И обтираться льдом приучен с детства. (Скинув рубаху, обтирается, ахая от удовольствия). Кэйф! Словно заново рождаюсь для новой неведомой жизни! Благодарю вас, господа. Вы исполнили все, как договаривались. Признаться, я не предполагал, что все так легко устроится. ВОЛКОНСКИЙ. Еще ничего не кончено. Осторожнее, государь, не подходите к окнам. На площади полно народа, сейчас граф Дибич объявит, что вы преставились. Оденьтесь, прошу вас, сюда уже идут. СОЛОМКО. Это, должно быть, доктор Тарасов… Входит не доктор, а Лизе – и сталкивается с голым супругом. Вскрикивает страшно, медленно заваливается боком. Волконский в последний момент успевает ее подхватить и дотащить до кресел. Соломко пытается привести ее в чувство. АЛЕКС. Как она не вовремя… ВОЛКОНСКИЙ. Нужно за Тарасовым послать. Что же теперь делать? Все может раскрыться… АЛЕКС. А может, она… Уже не очнется? ВОЛКОНСКИЙ. Еще хуже. Две смерти сразу вызовут обязательно подозрения. И так уже весь Таганрог говорит, не мог-де государь во цвете лет, такой закаленный и ничем не болевший, за две недели сгореть от какой-то простуды. При полном штабе докторов к тому же! А тут еще и государыня. ЛИЗЕ. Что? ВОЛКОНСКИЙ. Успокойтесь, ваше величество. Ничего не произошло. ЛИЗЕ. Что это было? Призрак? ВОЛКОНСКИЙ. Государыня моя Елисавета Алексевна, простите, что мы не посвятили вас в задуманное. Тому причиной важные государственные обстоятельства. ЛИЗЕ. Значит, он не умер? АЛЕКС. Тихо! Слышите, как за окном все сразу стихло? СОЛОМКО (у окна). Граф Дибич вышел на крыльцо, все подались к нему поближе. Сейчас объявит… (Тишина за окном сменяется гулом, прорываются отдельные вскрики и рыдания. С дальней колокольни доносится погребальный набат. Царица подымается с кресел). ЛИЗЕ. Может, все же объяснишь? АЛЕКС. На площади объявили, что я умер. Попятной дороги больше нет. Ты столько раз твердила, что устала слушать о желании моем отказаться от престола. Считала меня фантазером, безвольным мечтателем. Очевидно, таковым меня в России аттестует большинство подданных. Тем легче они поверят в мою смерть. ЛИЗЕ. Но как же твоя болезнь? АЛЕКС. Лихорадка действительно была. Я простудился на обратном пути из Крыма. Любезный наш Тарасов может засвидетельствовать. ЛИЗЕ. Но кто же тогда здесь? АЛЕКС. Тот, кого ты сможешь вполне искренно оплакивать вместо меня. (Стаскивает простыню с покойного). ЛИЗЕ. Мацков! АЛЕКС. Любезный князь, объясните ее величеству, что не я приказал хватить поручика по затылку. ВОЛКОНСКИЙ. Елисавета Алексеевна, простите, ради Бога, мы вынуждены были разыграть злую шутку с мнимой смертью. Поверьте, выхода не было. Надеюсь, вы, узнав истинные мотивы, поддержите нас. ЛИЗЕ. Я две недели глаз не смыкала, места себе не находила. Почему ты так жестоко обошелся со мной? АЛЕКС. В любом случае, она будет молчать, у нее просто нет иного выхода. ЛИЗЕ. Что? Я должна участвовать в этой буффонаде? АЛЕКС. Колесо завертелось, меня уже все видели мертвым. Тебе никто не поверит. Так что придется доиграть комедию до конца. ЛИЗЕ. До моего конца? Но если ты не оденешься сейчас, то я немедленно покину дворец и не вернусь сюда. ВОЛКОНСКИЙ. Кстати, я договорился, что вы сегодня же переедете к Шихматовым. Это будет и вам удобно, и нам свободнее действовать. Когда тело откроют для прощания, вам придется приходить к нему раз в день. Ненадолго, по десяти минут спектакля… ЛИЗЕ. Оплакивать Мацкова? АЛЕКС. Можешь не демонстрировать своих чувств к нему публично. А скорбь и так не сходит с твоего лица. ЛИЗЕ. Что с ним случилось? Когда? СОЛОМКО. На обратном пути из Крыма, уже под Ореховым. Привез государю ваши записочки и письмо из Петербурга от государыни-матери. Тройка понесла, на повороте коляска зацепилась за выступ. Бедного Мацкова выбросило из коляски, он ударился головой о валун… Перелом основания черепа. Мгновенная смерть. АЛЕКС. Представь, сие ужасное событие произошло на моих глазах! Еще больше потрясла меня мысль, что Мацков, о том все говорили, старался внешне во всем на меня походить. Я приказал Тарасову написать заключение о смерти и поставить покойному крест при дороге, где это случилось. Тело доставили тайно сюда и держали в ледяном погребе при гошпитали. (Протягивает платок).. Повяжи ему рот, как мне давеча. ЛИЗЕ. Я не могу! Мне страшно… АЛЕКС. А вы представьте, ваше величество, что перед вами восковая кукла. Фрейлины видели, как вы подвязывали мне свой платок. Они и не подумают, что теперь им подвязана челюсть не моя, а вашего тайного воздыхателя. ЛИЗЕ. Что, опять приступ беспочвенной ревности? АЛЕКС. Оставьте нас одних, господа. АНИСИМОВ. Да вы оденьтесь, наконец, батюшка. Что за ребячество, в самом деле. Вот иноческий плащ, как вы просили. АЛЕКС. Спасибо, господа, все идет превосходно. Доиграем же до конца. (Разворачивает черный балахон). ВОЛКОНСКИЙ. В хламиде священника, думаю, вас трудно будет признать. Только прикройте глаза капюшоном. СОЛОМКО. Я принесу вам накладную эспаньолку. АЛЕКС. Зачем? Я не брился пять дней, скоро моя щетина сама превратится в седую бороду. (Все уходят. Прикрывают дверь. Супруги остаются наедине). ЛИЗЕ. Может, в самом деле, ты оденешься? АЛЕКС. Отвыкла видеть мужа голым? Действительно, мы так давно не исполняли супружеского долга… ЛИЗЕ. Ты с ума сошел! Прямо сейчас и здесь? АЛЕКС. Согласен, время и обстановка не самые подходящие. Но ведь другой возможности нам больше не представится. Мы должны сейчас расстаться навсегда. Иди же ко мне… ЛИЗЕ. Ты смеешься. Давно не видела тебя таким веселым. АЛЕКС. Тому причиной радость освобожденья. Эта новизна, эта нагота – как рождение к новой жизни. Я впервые за многие месяцы чувствую себя легко. Раздели же эту легкость, эту радость со мной! Разденься, прошу тебя… ЛИЗЕ. Оденься, наконец, я не могу это выносить! Алекс, я не узнаю тебя. Ты в Таганроге вдруг стал так внимателен ко мне, так заботлив. Зачем тебе в последние два месяца понадобилось разыгрывать роль влюбленного супруга, если ты знал, что нам придется расстаться? АЛЕКС. Твой лейб-хирург Виллие говорил мне, что твое улучшение самочувствия – это ненадолго. Счет идет на недели, в крайнем случае, до зимы. Но ты вдруг ожила, помолодела даже. Кто же из вас меня обманывал? Или вы с ним заодно? ЛИЗЕ. Ты и меня подозреваешь в заговоре? АЛЕКС. Мне ничего другого не остается, как всех подозревать. Даже тем троим – Тарасову, Волконскому, Соломке – я доверяю только потому, что кому-то нужно было довериться. План тайного ухода нельзя было осуществить в одиночку. ЛИЗЕ. Значит, заговор все-таки существует? АЛЕКС. Тому имеются неоспоримые подтверждения. Можно не сомневаться, что в нашем ближайшем окружении у бунтовщиков имеются сообщники. Возможно, твою неизлечимую болезнь придумали нарочно, чтобы выманить меня из Петербурга. Там до государя сложней добраться. ЛИЗЕ. Но я действительно больна, ты знаешь, и болезнь моя неизлечима. Выходит, я виновата в том, что здесь, в Таганроге, у меня случилось улучшение самочувствия? На этом строишь ты свои подозрения? А где ж доказательства? АЛЕКС. Десять дней назад я получил письмо от графа Аракчеева. А позавчера ночью от него тайно прибыл прапорщик Шервуд – привез списки заговорщиков, сотни офицеров в столице и в южных губерниях. Какие еще нужны тебе доказательства? Они решили начать с меня, но готовы, если понадобится, истребить всю царскую фамилию. ЛИЗЕ. Коли известны имена заговорщиков, почему ты не распорядился арестовать их? АЛЕКС. А кому попадет мой приказ? Может быть и даже скорее всего, их же приспешникам! Вся верхушка армии поражена заразой заговора, не исключено, что и Двор, и Зимний дворец для злоумышленников доступны. Обложили со всех сторон. Осталось четыре человека, на кого я еще могу положиться. ЛИЗЕ. Но не на меня, так ли? АЛЕКС. Даже преданный мне с детства кучер Байков пусть думает, будто я умер. Так будет достоверней. ЛИЗЕ. Нет, ответь, меня ты тоже подозреваешь? Меня, свою жену, тридцать лет прожившую с тобой… АЛЕКС. А как, скажи на милость, думать про тебя? Бабушка Екатерина тоже выступила на стороне заговорщиков против своего мужа. И отец всегда подозревал нашу матушку в противных замыслах. Ты столько времени проводишь с Виллие наедине. Откуда мне знать, о чем вы говорите? ЛИЗЕ. Клянусь, мы говорили большей частью о твоем здоровье. АЛЕКС. Разве ты с ним не спала? ЛИЗЕ. Как ты смеешь так оскорблять меня… Впрочем, очевидно, ты имеешь право. Как и я могу тебя укорять в неверности. С лейб-хирургом я не спала. Разумеется, мне приходилось раздеваться перед ним во время медицинского освидетельствования. Он смотрел меня и по женским недугам. АЛЕКС. И как часто смотрел? Признайся, тебе это не было противно. ЛИЗЕ. Что за бред! Ты опускаешься до придворных сплетен. АЛЕКС. То есть, выходит, ты не его любовница? И вы говорили больше о моем самочувствии. Наверно, он советовался, как лучше меня лечить. ЛИЗЕ. Конечно, ведь ты решительно отказывался принимать лекарства. АЛЕКС. Хорошо. Сейчас проверим. (Достает флакон.) Что это за пилюли? Он прописал их от крымской лихорадки, а ты все время подсовывала мне, уговаривала принять. Даже священника настроила, чтобы помогал сломить мое упрямство. Ты знаешь, что в этих шариках? ЛИЗЕ. Яков Данилыч сказал, что составил лекарство для тебя. АЛЕКС. Разве ты не знаешь, что мне прописывал твой врач? Я нарочно соглашался, принимал их… Но не глотал, а незаметно выплевывал и собирал для улик. ЛИЗЕ. Зачем? Что в них? АЛЕКС. Я ведь знаю вкус хинина. Нарочно попросил Тарасова, тот дал мне целую склянку и объяснил, как действует хинин противу крымской лихорадки. А тут совсем не горько, и явно привкус металла. Так что это за пилюли? Возьми, проглоти их. ЛИЗЕ. Виллие говорил, что это особое слабительное. Объяснял необходимость принять. Как это ужасно – не верить своему же доктору! АЛЕКС. Врачи обычно и бывали отравителями. Кому же еще разбираться в ядах? Микроскопическая доза мышьяка действует целебно, но стоит лишь изменить нечувствительно дозу, чтобы он же вызвал смерть. ЛИЗЕ. Хорошо, если ты мне не веришь, я выпью. АЛЕКС. Если это обычное слабительное, то хуже тебе не будет. А я успокоюсь, поверю, что вы с Виллие не хотели меня отравить. ЛИЗЕ. А если тут яд? АЛЕКС. Тогда мы убедимся, что ты ни в чем предо меня не виновата, а была лишь слепым орудием в руках заговорщиков. Вот вода, запей. Что, боишься? ЛИЗЕ. Не боюсь. Но ты точно знаешь, в этих пилюлях содержится яд? АЛЕКС. Откуда же мне знать, я только полагаю. (Подает ей стакан воды со стола у изголовья кровати, где лежит Мацков). Вот и проверим. ЛИЗЕ. Ты не веришь мне. (Вытирает слезы. Повязывает челюсть умершего тем же платком, что некогда повязывала мужа). Неужто Мацкова никто не узнает в гробу? АЛЕКС. Сомневаюсь, что после вскрытия и бальзамирования он будет слишком на себя похож. Выставят его перед публикой в церкви в моем мундире. Увидят нос, лысину и бакербарды – все точь-в-точь как у меня. Коли кто и заподозрит, то побоится в том признаться даже самому себе. ЛИЗЕ. А он действительно был на тебя похож. Старался походить на своего любимого государя. АЛЕКС. Чтобы понравиться государыне. ЛИЗЕ. Не говори так о покойнике. Может, он и любил меня… Только, как мне кажется, для того, чтобы и в этом быть ближе к своему кумиру – к тебе! АЛЕКС. Что ж, тогда посмертная участь, думаю, станет ему утешением. Его прах провезут через всю Россию, пред гробом будут склоняться тысячи соотечественников. А потом тело захоронят в Петропавловском соборе – и на плите сверху напишут мое имя. ЛИЗЕ. Перестань! Прошу тебя, не кощунствуй при покойном… АЛЕКС. Мне можно. Не бойся мертвых. (Улыбается, скривя губы)ы). Чего уж нас боятся! ЛИЗЕ. Он еще шутит… Знаешь, ты действительно стал вдруг иным человеком. Я не узнаю тебя. Должно быть, это оттого, что последние два года я не видела улыбки на твоем лице. После смерти Софи, казалось, ты окаменел. АЛЕКС. Меня при жизни европейцы называли северным Сфинксом. И вот теперь тот каменный Сфинкс ожил к новой жизни! Но для всех, как и для тебя, сегодня я умер. Так что выпей эти пилюли – и простимся навек. ЛИЗЕ. А если все же заговора нет? Вдруг это лишь чудовищная провокация? АЛЕКС. Моя мнимая смерть поможет заговорщикам проявить себя хоть в чем-то, они обязательно выступят… Ведь не могу я осудить кого-либо на основании одних только списков Шервуда. К тому же он указал рядовых исполнителей. Истинные заправилы, как водится, скрываются на самом верху. ЛИЗЕ. Что, если твой любимый Аракчеев с ними заодно? Вспомни, сколько ты его звал сюда, писал каждый день, а он заперся в своем Грузине. АЛЕКС. Железный граф Алексей Андреевич заговорщикам не по зубам! Однако они нашли его слабое место – единственное, куда можно ужалить больнее. Подговорили крепостных убить его возлюбленную Минкину. ЛИЗЕ. Сюда идут, кажется. АЛЕКС. Ты так и не выпьешь пилюль? Или выдашь нас? Нет, не посмеешь. Все видели, как ты мне повязала голову платком. (Накрывает голову капюшоном). Потупьте очи и молчите. А я, смиренный странник, буду стоять рядом и молиться за вас. И если что, имей в виду… (Крестится, склоняется над ложем). Упокой, Господи, души умерших детей твоих и всех православных христиан, даруй им Царствие небесное! Царица присела у траурного ложа. Царь в образе чернеца отвернулся к иконостасу в углу, молится истово. Входят Дибич, Волконский, Тарасов, Виллие, офицеры, казаки, чиновники. ВОЛКОНСКИЙ. Прошу прощения, государыня Елисавета Алексевна. Печальная необходимость заставляет нас нарушить скорбное ваше уединение. На несколько минут. Действуйте, граф. ДИБИЧ. Господин Петухов, при понятых, пожалуйте опечатать бумаги Государя Императора. Генерал Чернышев, прикажите четверым казакам перенести тело Благословенного усопшего. Камердинеры, ставьте по углам стола подсвешники. Князь Волконский, пусть живописец запечатлит сие печальное событие для потомков. В начавшейся суматохе никто не обращает внимания на молящегося чернеца. Одна Лизе постоянно оглядывается в его угол. Ей приходится подняться, чтобы не мешать казакам, перекладывающим накрытого простыней Мацкова с походной кровати на огромный резной стол, покрытый зеленым сукном. Лизе воспользовалась этими перемещениями, чтобы подойти ближе к Алексу. ЛИЗЕ (тихо, не оборачиваясь). Слава Богу, простыни с тела не убрали. Одно неосторожное движение – и все может раскрыться. АЛЕКС (крестясь под капюшоном). Упокой, Господи, душу раба твоего… А ты, вдова, пребудь в уверенности, что он уже на небесах! ЛИЗЕ (громко). Молись за него, добрый и печальный странник… Я прикажу выдать тебе денег, чтобы ты заказывал по нему панихиды во всех монастырях, где доведется тебе побывать. ВОЛКОНСКИЙ. Денег я дам, сколько прикажете, государыня Елисавета Алексевна. А теперь позвольте проводить вас в покои. В семь часов здесь совершат первую панихиду, до того же следует вам отдохнуть, набраться сил. ЛИЗЕ (бросается к телу на столе). Дайте мне еще немного побыть с Александром! ВОЛКОНСКИЙ. Нам нужно обрядить покойного императора в парадный мундир. Убрать и окурить ладаном помещение. ЛИЗЕ (рыдает над телом Мацкова). Мой ангел! Опять нас хотят разлучить! Но я не долго проживу… Смерть нас разлучила – она же вскоре соединит с тобой навеки. ВОЛКОНСКИЙ. Успокойтесь, государыня Елисавета Алексевна, мы все разделяем ваше горе. Однако долг превыше чувств. (Анисимову). Где мундир? Приступайте. Анисимов с другими камердинерами одевают тело в мундир государя. Царица снова отходит в угол, где молится Алекс-странник. ДИБИЧ. Господа, нужно подписать Акт. Мы уже зачитали его жителям Таганрога. Князь Волконский. Генерал Чернышов. Господа медики – Виллие, Тарасов, Штоффреген, Рейнгольд. (Все названные поочередно подходят и подписывают лист). Фельдъегерь, сей акт следует без промедления доставить в Варшаву и передать лично в руки Его Императорскому величеству Константину Павловичу! ВОЛКОНСКИЙ. Почему же в Варшаву, а не в Санкт-Петербург? Нужно сперва известить Двор, сообщить матери – вдовствующей императрице Марии Феодоровне, великим князьям Николаю Павловичу или Михаилу Павловичу. ДИБИЧ. Им лейб-хирург Виллие отвезет заключение о медицинском вскрытии и анатомическом исследовании, подтверждающем причины смерти Государя Императора в Таганроге. ЛИЗЕ. Господа, я должна официально заявить, что покойный государь оставил документы, согласно которым наследником престола является брат Николай. А Константин сам отрекся от своих прав два года назад. Зачем же вы опечатали бумаги? Взгляните в них, там должны быть и письмо Константина, и Указ Александра о правах престолонаследия Николая. ДИБИЧ. Какие бумаги? Нам ничего неизвестно. ВОЛКОНСКИЙ. В бумагах государя, он сам показывал, имеется конверт, на котором собственноручно им подписано: «Вскрыть после моей смерти». ДИБИЧ. Долг, господа, повелевает нам действовать согласно закону. Даже если великий князь Константин действительно отрекся, сие публично не было засвидетельствовано государственным актом. Следовательно, великий князь, а теперь император Константин Павлович является законным преемником трона. Объявить наследником Николая, при всем моем благоговении к почившему в Бозе императору, он не имел права. Корона российская – это не семейное дело дома Романовых. А Россия не есть их фамильная вотчина. ВОЛКОНСКИЙ. Не много ли власти вы взяли, граф? ДИБИЧ. Сами же изволили заметить, князь, что вы – всего лишь гофмаршал в свите императрицы. А я действую согласно предписанию. ЛИЗЕ. Какому предписанию? Из Петербурга? ВОЛКОНСКИЙ. Постойте, о каком предписании речь? Ни в Варшаве, ни в Петербурге сейчас даже не знают о том, что император Александр Павлович болен. ЛИЗЕ. Мы о болезни написали третьего дня, письма наши еще не дошли. ВОЛКОНСКИЙ. Тем не менее, Иван Иванович уже имеет предписание, как надо действовать в случае смерти государя. Что из того следует? От кого вы получили инструкции? ДИБИЧ. Вы забываетесь, князь! ВОЛКОНСКИЙ. Отправляйтесь сами в Варшаву. Но пошлите сначала фельдъегеря к матери. ДИБИЧ. Хорошо, надо известить генерал-губернатора Санкт-Петербурга графа Милорадовича. ЛИЗЕ. Господа, прекратите препирательства. В самом деле, я пока еще императрица! Извольте при мне не делить полномочий. Разве вы не чувствуете? Дух моего дражайшего супруга, нашего ангела, витает в этой комнате. Или вы не верите, Иван Иванович, что он сейчас нас слышит? ДИБИЧ. Государыня, мне очень жаль… Видит Бог, как я любил государя, как я искренне сочувствую вашему горю. Однако мне, начальнику Генерального штаба, полагается исполнить долг. ЛИЗЕ. Но я-то пока императрица? Вы должны мне повиноваться? Я требую послать гонца Николаю. И написать матери – Марии Феодоровне. ДИБИЧ. Слушаюсь, ваше величество, и повинуюсь. Разрешите идти? Откланивается, уходит парадным шагом. Снова доносится погребальный набат. Чернец читает Cвятое Благовествование. Все присутствующие молятся и постепенно расходятся. ВОЛКОНСКИЙ (уходя). И все же граф Дибич себя выдал! АЛЕКС (продолжает читать из Нового Завета). «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». СОЛОМКО. Теперь ясно, что сюда его подослал Милорадович. Уходит. Супруги снова остаются одни. ЛИЗЕ. Ты доволен? Достойно ли сыграла я роль убитой горем вдовы? АЛЕКС. Весьма. Благодарю, Лизхен. ЛИЗЕ. И все еще подозреваешь меня в измене? АЛЕКС. Отдай пилюли. ЛИЗЕ. Нет, теперь они мне пригодятся. Смерти я не боюсь. Тем более, что я давно уже приговорена врачами. Только мне хотелось сначала доказать тебе, что мне можно доверять тайны. АЛЕКС. Ты доказала. Спасибо, дорогая. Особенно хорошо ты ответила Дибичу. Дети! Они искали убить меня за то, о чем я сам мечтал всю жизнь – введение конституционного правление и освобождение крестьян! ЛИЗЕ. Как будто есть в России к тому малейшая возможность. АЛЕКС. Желание есть, да взять некем! Провозглашать реформы можем – только некому их осуществлять. Впрочем, это уже не нужно никому объяснять. Я устал. Даже солдату после двадцати пяти лет службы положен отдых. ЛИЗЕ. Но куда ты пойдешь? АЛЕКС. Сегодня ночью я покину Таганрог и стану странником, не помнящим родства своего. ЛИЗЕ. А как же я? АЛЕКС. Во время поездки по Крыму я купил у Безбородки маленький дом в Ореанде. Оформил имение на имя отставного полковника Романова. Помнишь, мы мечтали жить там вдвоем, когда я выйду в отставку? (Достает из стола бумаги). Возьми купчую. Ты могла бы провести там зиму – климат как раз для тебя. ЛИЗЕ. Зачем мне дом одной? Ты не можешь там оказаться тайно? Зажили бы тихо вдвоем… Одинокая больная вдова монарха в окружении странников, богомольцев. Ты вполне мог бы остаться среди них незамеченным. АЛЕКС. Мне в Крым нельзя. Сейчас там многие видели меня. И тебя еще долго не выпустят из виду те, кто решился на государственную измену. ЛИЗЕ. Но рано или поздно мне придется ехать в Петербург… АЛЕКС. Разумеется, на мои торжественные похороны. Волконский постарается задержать под разными предлогами отправку тела из Таганрога. Зимой, в распутицу, процессия будет двигаться медленно. Может, получится оттянуть время погребения до весны? Тогда уж точно никто меня в гробу не узнает. ЛИЗЕ. Я не смогу сказать твоей матери Марии Федоровне, если она меня прямо спросит… Ты же знаешь, я никогда не могла с ней говорить. Я ее боюсь. АЛЕКС. Что бы она тебе ни сказала, что бы ты ни ответила, все это останется только между вами. Все будут знать, что Александр умер, и у России к тому времени давно уж будет новый государь Николай Павлович. ЛИЗЕ. Скорее б смерть моя пришла! Зачем мне жить, если рядом не будет тебя? Ты оставлял меня на месяцы, на годы… Но навсегда с тобой расстаться – это свыше моих сил. Я не вынесу этой мысли: «Навсегда». АЛЕКС. Отдай пилюли. Ты можешь все испортить, если вдруг умрешь… Две наших смерти вызовут лишние подозрения. ЛИЗЕ. Нет, я выпью. В самом деле, мое горе над телом мужа уже видели многие, больше в вашей игре я не нужна. Собственно, я всегда была для тебя лишней обузой. Вот и теперь ты радуешься, что уходишь от меня. А я как? АЛЕКС. Лизхен, давай простимся просто и светло. Что ж, мы не были с тобой добродетельными супругами. Ты начала мне изменять с Адамом Чарторыйским чуть ли не сразу после свадьбы. ЛИЗЕ. Не ты ли сам его ко мне подсылал? Зачем, скажи, ты оставлял нас с ним наедине, когда я умоляла этого не делать? Он поначалу был противен мне, противны его любовные признания… Однако ты упорно уверял, что при дворе так принято, что молодой супруге стыдно не иметь любовников, равно как и супругу любовниц. АЛЕКС. Прости! Я был молод и глуп. Меня самого уверили придворные повесы, тот же ухлестывающий за тобой Платон Зубов, будто так непременно надо. Чем больше у великого князя будет любовных побед, тем выше его репутация в свете! Наверное, мы оба виноваты, что наше семейное счастье не сложилось. Впрочем, ты позаботилась, чтобы граф Головкин описал в мемуарах твои добродетели, а вертопрах и рифмоплет Пушкин воспел тебя в своих стихах! За тобой ухаживали щеголи. Ты могла выбирать. ЛИЗЕ. Да, могла. Могла избрать кого угодно… только не собственного мужа. Тебе это нужно было, чтобы все могли чесать языками. Чтобы развязать себе руки. Ты стал почти открыто жить с Нарышкиной, при молчаливом согласии ее мужа. АЛЕКС. А ты, стоило мне уехать на войну, закрутила с Охотниковым. ЛИЗЕ. Скажи мне на прощанье откровенно: убить его приказывал не ты? АЛЕКС. Клянусь, я ничего не знал. И Константина не вини, вряд ли брат мой мог отдать такой приказ верному своему Куруте. Жалко Алексея… ЛИЗЕ. Что ж, я давно его забыла. Вот только жалко моей бедной Машеньки… АЛЕКС. Я простил тебе дочь, родившуюся от Охотникова. И ты прости мне Софочку Нарышкину. Тем более, мы и ее схоронили. ЛИЗЕ. Софи я тоже любила, она даже звала меня мамой. Я давно простила тебе и Нарышкину. И всех артисток, фрейлин, камеристок и бесчисленный ворох юбок, что водил к тебе тайно Волконский. Мы прожили тридцать таких разных лет. Мы были свидетелями самой страшной войны, каких история еще не знала. Однако обо всем я теперь вспоминаю светло. АЛЕКС. Вот и славно! (Обнимает ее). Это когда-нибудь должно было случиться. Не ищи меня. Не спеши в Петербург, там возможны большие беспорядки. Прощай, прости. Прошу тебя, Лизе… Верни пилюли! ЛИЗЕ. Ты так и не ответишь, куда идешь? АЛЕКС. И сам не знаю. Нет, знаю, конечно. И могу открыть это тебе одной. Как и тогда, в двенадцатом году, когда в Москве сидел Наполеон, ты помнишь, я рассказывал тебе, как слышал Глас внутри себя во время продолжительных молитв. Я точно знал тогда, что должен совершить, чего ждет от меня Создатель. После победы, после взятия Парижа мой внутренний слух уже не различал Божественных звуков. И вот теперь опять, я чувствую, меня ведет Провидение. Как бедный Иов, я готов ко всему… Мир не видывал более великого пожертвования – я оставляю не просто дом и семью, но корону и трон, самую огромную в мире державу, даже имя свое оставляю в миру, чтобы звали меня отныне Федором Кузьмичем. ЛИЗЕ. Как того старика-богомольца, с которым мы беседовали на берегу? Но ведь его в Таганроге знают слишком многие! АЛЕКС. В том и расчет. Мне сказали, он ушел недавно на поклонение в Киев. Я пойду в другую сторону. Маловероятно, что с ним мы встретимся когда-нибудь. А случится кому-то дознаваться, кто я таков – пошлют запрос сюда, в Таганрог. Местная полиция подтвердит, дескать, жил такой, но ушел на богомолье. ЛИЗЕ. Правдоподобно, только как-то ненадежно. Ты подвергаешь себя опасности. АЛЕКС. Поверь, опасность над Отечеством теперь нависла страшнее, чем тогда, в Отечественную войну. Там неприятель шел открыто и народ поднялся на защиту государя. Теперешние действуют неявно, но наверняка. Что ни случись, никто ничего не узнает. Народу скажут, дескать, умер государь от крымской лихорадки. Смертей и разрушений незримая такая битва может принести немало. И мой уход – последняя возможность предотвратить переворот. Или хотя бы поубавить число его сторонников, и как результат – количество убитых. Чтоб смена власти оказалась менее болезненной. ЛИЗЕ. Меня ты тоже приносишь в жертву. АЛЕКС. Я должен все оставить и уйти в одном лишь рубище – тогда мое покаяние будет услышано Богом. ЛИЗЕ. Слышишь, идут. Нам пора расставаться. Все равно не успела сказать тебе то, что хотела. Ты всю жизнь удивлял меня. И снова удивляешь. АЛЕКС. Ты напишешь мне об этом в своем дневнике. А сейчас верни пилюли. ЛИЗЕ. Нет! Хоть что-то должно же остаться мне после тебя. ВОЛКОНСКИЙ (входит). Государыня, нам пора уходить. Дибич все же послал в Петербург донесение императрице-матери. Но и в Варшаву послал… То-то будет в столице теперь заварушка!
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ Петербург, 14 декабря 1825 года
Темно, лишь вдали, на Сенатской площади, сияют факелы, их все больше. В предрассветной синеве разносится эхом мерный стук солдатских бот по промерзлой мостовой. Слышны отдельные возгласы: "Ура! Константин! Конституция!" В угловой зале Зимнего дворца у окна стоит Николай Павлович, великий князь, нынче ночью объявивший себя императором. Из своих покоев выходит его супруга – прекрасная Александра Федоровна. Со слезами бросается к нему. ЖЕНА. Доброе утро, Никс! НИКОЛАЙ. Лалла, зачем ты здесь? Я сам хотел к тебе зайти. Дети спят? ЖЕНА. Машенька нежится в постельке, Сашеньку уже одевают. А ты во всю ночь так и не ложился? Я ждала тебя и плакала… НИКОЛАЙ. Рано нас оплакиваешь. Хотя, конечно, всяко может повернуться. Я нынче либо император, либо мертв. Обещай, если случится худшее, умереть с честью. ЖЕНА. Хорошо, я готова. Обещать. Wie est verstehen – "с честью"? Ты думаешь, мятежники могут меня обесчестить? НИКОЛАЙ. Они не поглядят, что ты беременна. ЖЕНА. Дорогой, не бойся за меня. И вообще – ничего сегодня не бойся! НИКОЛАЙ. Я не боюсь. Хотя, зачем же врать, боюсь, конечно. Но больше за тебя и за детей. Я сделал все, чтобы сего не случилось. Сенаторы присягнули еще в восьмом часу и теперь разъехались, так что с захватом Сената заговорщики опоздали. Но никто не знает, насколько они сильны. ЖЕНА. Возможно, опасность преувеличивают. НИКОЛАЙ. Обычно в таких случаях, наоборот, ее преуменьшают. На площадь выйдут рядовые исполнители, козлы отпущения. Истинные главари заговора, как водится, затаились при Дворе. Они покажут себя, когда станет ясно, в чью пользу склонился перевес сил… ЖЕНА. Я буду молить небо, чтобы дал тебе силы! НИКОЛАЙ. Я тоже сейчас молился. На недостроенный Исаакиевский собор. ЖЕНА. А что там, на Исаакиевской площади, за огни? Там собирается чернь? Солдаты? НИКОЛАЙ. Нет, там строители с факелами. ЖЕНА. Значит, ты молишься на строящийся храм? НИКОЛАЙ. А его не строят, наоборот, разбирают по приказу императора Александра, почившего в Бозе… ЖЕНА. Ах, наш Ангел на небесах! Видит ли он нас сейчас? За три дня до его отъезда в Таганрог мы гуляли с ним в Царском Селе. А о чем говорили, уже не вспомню… Зачем же он велел разобрать церковь? НИКОЛАЙ. Сей многострадальный храм начала строить наша бабушка Екатерина Великая, когда я еще не родился. Но мрамор ушел на строительство дворца фаворита – светлейшего князя Потемкина – Таврического. Исаакий остался недокончен. Наш отец Павел Первый повелел достроить собор кирпичом и поскорей… Но тоже не успел. А брату Александру с самого начала не нравился сей грандиозный проект. ЖЕНА. Теперь ты царь – тебе предстоит достроить храм. НИКОЛАЙ. Если дадут начать. Ныне решится – доведется ли нам поцарствовать! ЖЕНА. Не говори так, Никс! Зачем ты меня пугаешь? В моем положении нельзя расстраиваться. НИКОЛАЙ. Если родится мальчик, назовем его в честь брата – Константином. ЖЕНА. От него из Варшавы так и нет вестей? НИКОЛАЙ. Мишель должен был привезти официальное отречение еще вчера. Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Я император. Синод мне тоже присягнул. Сухозанет доложил, в конной гвардии присяга прошла спокойно. ЖЕНА. Тогда чьи полки прошли к Сенату? НИКОЛАЙ. Откуда мне знать? Решительно ни от кого не могу добиться правды. Придворные шарахаются от меня, как от прокаженного. Милорадович хотел посадить на троне Константина, но не смог его выманить из Польши. Меня никто не хочет! Думают, я сам очень того желаю! ЖЕНА. Да-да, Никс! Правда, как нам было хорошо вдвоем… Такого больше не повторится. НИКОЛАЙ. А может мне отречься? Думаю, они согласятся принять мое отречение в пользу сына нашего Александра с регентством старой императрицы Марии Федоровны – лишь бы сохранить свое влияние. В Петербурге привыкли к могуществу генерал-губернатора Милорадовича и первого министра Аракчеева. Гвардия меня не любит. ЖЕНА. Наш Сашенька совсем ребенок, ему еще придется царствовать. А сегодня ты царь, хотят они того или нет. Не всем же тебя любить! Или тебе уже мало того, что тебя люблю я и дети наши? Ты плачешь? НИКОЛАЙ. Не буду. Так хорошо вдвоем нам больше никогда уже не будет… ЖЕНА. Я постараюсь сделать все, чтобы мы были счастливы. НИКОЛАЙ. Ты одна знаешь, Лалла, что я создан для тихой семейной жизни. В крайнем случае, командовать полком. К управлению государством меня не готовили. Но коль Александр умер так внезапно, а Константин подтверждает, что не желает царствовать – мой долг исполнить волю братьев. Даже если придется умереть! ЖЕНА. Я обещала умереть с тобой. Теперь ты обещай – не выходить из дворца на площадь. НИКОЛАЙ. Во дворце все слушают Милорадовича и старую императрицу. Зимний охраняется финляндцами, и кто знает, не переметнутся ли они на сторону мятежников, когда увидят, в чью пользу складываются обстоятельства. ЖЕНА. Неужто даже матери своей ты не доверяешь? НИКОЛАЙ. Ни слова больше. Кстати, вот она сама. В зале постепенно начинают собираться военные в парадных мундирах при орденах. Раскланиваются с вошедшей императрицей-матерью Марией Федоровной, отдают честь сопровождающему ее генерал-губернатору графу Милорадовичу. МАТЬ. Что случилось, Ники? НИКОЛАЙ. Не приехал Мики? Верно, опять брат пройдет сразу к вам, маман. МАТЬ. Зачем на площади собирают полки? НИКОЛАЙ. Об этом лучше знать графу. И зачем собирают во дворце офицеров, граф? Вы приказали? ГРАФ. Помилуйте, ваше величество, как я смею распоряжаться в царском дворце? Ваш покойный брат, государь Александр Павлович вверил мне столицу, назначив военным генерал-губернатором, должность коего я старался исполнять с усердием с лишком восемь годов. И ежели вашему императорскому величеству угодно будет оставить за мной сей пост, за счастие почту блюсти спокойствие в городе. НИКОЛАЙ. Помнится, вы настаивали, чтобы я первым присягнул брату Константину. Пугали возмущениями в гвардии. А теперь уверяете, дескать, все спокойно. Мне докладывают о тайном обществе, их возможном выступлении сегодня, а вы ручаетесь за спокойствие? Как вас понимать, граф? МАТЬ. Михаил Андреевич считает, что офицеров, когда они закончат присягу в своих частях, нужно отблагодарить. Думаю, эта зала подойдет. Ты зачитаешь свой Манифест, поблагодаришь за верность долгу и Отечеству. Я приглашу всех отобедать с нами. Официальный же прием послам европейских держав устроим вечером в тронной зале. Там мы торжественно представим новую государыню Александру Федоровну, и маленького Александра – законного наследника престола. НИКОЛАЙ. Не до приемов нынче. Видите, на площади волнение. Кто-то под покровом темноты стягивает полки и строит их у памятника Петру. Думаю, генерал-губернатор все же разъяснит, что там происходит. ГРАФ. Обязательно, ваше величество, сейчас все узнаем. Не смею долее оставаться и откланиваюсь. (Быстро уходит, за ним спешат его адъютанты). МАТЬ. И мы пойдем, пожалуй, к детям. Оденемся, как подобает царице. Мария Федоровна уводит жену Александру Федоровну. Николай Павлович оглядывается по сторонам, присутствующие держатся поодаль, стараются не встретиться с ним взглядом, лишь Бенкендорф учтиво раскланивается с государем. Тот подзывает его к себе. НИКОЛАЙ. Можно вас? Какого полку будете? БЕНКЕНДОРФ. Полковник Бенкендорф, ваше величество. Начальник штаба гвардейского корпуса. НИКОЛАЙ. Помню вас по Парижу. Заграничный поход десять лет назад. Генерала Бенкендорфа, Христофора Ивановича сын? БЕНКЕНДОРФ. Так точно, Александром батюшка нарек. Приказывайте, ваше императорское величество! НИКОЛАЙ. Полковник, хочешь сделаться генералом? БЕНКЕНДОРФ. Карьеры не бегу. Хотя не ради чинов и наград, государь… дозволь говорить откровенно. Больно смотреть, все вокруг с ума своротились! В Гвардейском экипаже офицеры заискивают перед солдатами. Распускают слухи, будто Константина Павловича не пускают в Петербург, держат в кандалах. А великого князя Михаила Павловича, дескать, сослали подальше от столицы. НИКОЛАЙ. Негодяи! Александр Христофорович, вы понимаете, старики свое получили в предыдущее царствование, мне же нужно опереться на молодых. На кого еще я сегодня могу положиться? БЕНКЕНДОРФ. На молодого Орлова и его орлов – гвардейских коннопионеров. НИКОЛАЙ. А из нижних чинов? У вас найдется кого послать из их числа к Сенату, чтобы разузнать, по возможности скрытно, что там творится? Кто вывел на площадь солдат, сколько у них штыков? Какие выдвигают петиции? БЕНКЕНДОРФ. Все понял, ваше императорское величество, разрешите выполнять? (Николай кивнул). Слушаюсь! Бенкендорф удаляется, пропуская в дверях великого князя Михаила Павловича со свитой. Николай демонстративно отворачивается и смотрит в темноту за окном. Михаил подходит к нему, останавливается в нерешительности. Молчит. НИКОЛАЙ. Ты не хочешь поздороваться с братом? Или считаешь, что здоровье мне больше не понадобится? БРАТ. Я только что из Ненааля. Что тут у вас творится? НИКОЛАЙ. Разве ты ничего не знаешь? Неужто маман не поведала? БРАТ. Я у матушки не был еще, сразу к тебе. НИКОЛАЙ. Надо же, какая честь! Обычно ты бежал сразу на половину императрицы, вы надолго запирались там, совещались… БРАТ. Сердишься на меня? Не понимаю, чем я провинился. НИКОЛАЙ. Не понимаешь? Тогда объясни, что ты делал целую неделю в Ненаале? Почему не доехал до Варшавы, куда тебя посылали? Отчего не привез Константина сюда? Тут лейб-гвардии Московский полк взбунтовался, вышел на площадь перед Сенатом. Распускают по столице слухи, что Константина, законного императора, держат в кандалах, а тебя выслали из Петербурга, как его сторонника. Меня не любят в гвардии, понятно, зато вы с Милорадовичем всем милы! БРАТ. Ты меня подозреваешь в заговоре? Благодарствуй, Ники! НИКОЛАЙ. А что, Мики, разве не твои друзья – Ростовцев, Булатов, Оболенский? Вот, читай. (Передает ему листок). Подпоручик Ростовцев второго дня принес донос. По причине сильного заикания изложил письменно все угрозы тайного общества. Имен не называет, понятно, их и так нетрудно вычислить… Вчера заговорщики бегали по Петербургу с квартиры на квартиру почти открыто, совещались, составляли план мятежа. Вверенная генерал-губернатору полиция, разумеется, ничего не замечала. А ты все это время развлекаешься в Ненаале, пьешь с генералами, проезжими офицерами, вскрываешь фельдъерскую почту. Думаешь, я поверю, что мальчику Мики просто захотелось покутить вдали от матушки и молодой жены? БРАТ. Да, я не доехал до Варшавы. Потому что бесполезно! Константин в Петербург не поедет. Да, я останавливал курьеров и фельдъегерей, вскрывал всю переписку. Зато узнал много важного и спешу тебе доложить самое главное: в Варшаву направлялся Виллие, лейб-хирург покойного брата нашего Александра, чтобы передать Константину официальный акт смерти и протокол медицинского освидетельствования. Я баронета завернул, привез с собой в Петербург. Я вернул с полпути генерала Толя, он очень пригодится нам сегодня. Чем еще доказать свою верность, брат? Хочешь, я сам выйду на площадь и поговорю с взбунтовавшимися солдатами? НИКОЛАЙ. Нет, лучше скачи в Гвардейский экипаж, покажись там, пусть удостоверятся, что ты на свободе. Подтверди им клятвенно, что Константин отрекся добровольно и не хочет выезжать из Варшавы. Светает. Сенатская площадь полна народом. Перед выстроившимся каре солдат ходят несколько офицеров и отставных в штатском. Бестужев и Оболенский командуют, штатские держатся от солдат подальше. Среди них Якубович и Рылеев.
ЯКУБОВИЧ. Где Трубецкой? Нельзя же начинать без диктатора! РЫЛЕЕВ. Пущин был у него на квартире, тот обещал прийти. Почему не ведешь матросов на Зимний дворец? ЯКУБОВИЧ. А почему вы не ведете солдат на Сенат? РЫЛЕЕВ. Потому что сенаторы уже присягнули и разъехались по домам. Генерал Милорадович завтракает у своей возлюбленной – танцовщицы Телешовой. ЯКУБОВИЧ. Я не хочу, чтобы матросы в стычке перерезали царскую семью. Тогда получится очередной дворцовый переворот, а не выступление ради идеи. Нужно идти на переговоры с царем. РЫЛЕЕВ. И застрелить его. Пистолеты с тобой? ЯКУБОВИЧ. А почему я должен? Вчера Каховский обещался убить царя, все его обнимали, поздравляли как героя. РЫЛЕЕВ. Голова раскалывается. ЯКУБОВИЧ. Иди домой, ты болен. РЫЛЕЕВ. Трубецкой не повел солдат на Сенат, ты не ведешь матросов на Зимний дворец. Вчерашний план восстания летит к чертям. Только говорить молодцы, а делать… Жаль, рано я вышел в отставку. И разболелся некстати. Еще раз прошу, убей императора, ты станешь в истории героем. ЯКУБОВИЧ. Я не мясник. Вряд ли новый государь нынче высунется из дворца. И на площади к нему не подступиться. Наверняка окружит себя охраной в три кольца… Разводная площадь, которая позже будет названа Дворцовой. Николай стоит один на возвышении лестницы, читает Манифест. Внизу толпа простолюдинов и штатских, все разговаривают, никто царя не слышит. БЕНКЕНДОРФ. Государь, почему вы один здесь? НИКОЛАЙ. Потому что никого вокруг, все разбежались. Великий князь Михаил Павлович поехал в Гвардейский экипаж. БЕНКЕНДОРФ. Насколько мне известно, оттуда он уже проследовал в казармы к артиллеристам. Ваше императорское величество, зачем вы вышли из дворца? (Обращаясь к толпе, вниз, кричит). Шапки долой! НИКОЛАЙ. Спасибо, полковник. Признаться, я несколько растерялся, когда начал читать и увидел, что меня не слушают. БЕНКЕНДОРФ. Они вас просто не слышат. Такой кругом тарарам. На Сенатской площади, как удалось узнать, тоже полная неразбериха. Офицеры, в основном штабс-капитаны, вывели из частей солдат, до трех тысяч штыков. Но общего командования нет, все ждут князя Трубецкого. НИКОЛАЙ. Как Трубецкого! Он у них предводитель? Я только что видел его на углу Генерального штаба. Выглядывал из-за угла. Мне показалось, он смертельно трусит. БЕНКЕНДОРФ. Сергей Петрович – боевой офицер, герой кампании двенадцатого года, он никогда не давал повода считать себя трусом. ЯКУБОВИЧ (подходит, говорит, сильно волнуясь). Государь, я только что оттуда, у Медного всадника выстроилось каре. Я хотел примкнуть к ним, но узнав, что они за Константина, пришел сюда. НИКОЛАЙ. Спасибо, голубчик. ЯКУБОВИЧ. Нужно вступить с ними в переговоры… БЕНКЕНДОРФ (старается все время быть между ним и Николаем). Вас кто-нибудь уполномочил на переговоры, милостивый государь? ЯКУБОВИЧ. Нехорошо, если в день вашего восшествия на престол прольется кровь. Дурной знак… НИКОЛАЙ. Я не желаю крови. БЕНКЕНДОРФ. Вступать в переговоры можно лишь после того, как войска вернутся в казармы. ЯКУБОВИЧ. Велите передать им, что готовы выслушать их требования? НИКОЛАЙ. Лучше передайте, что они могут сложить оружие и сдаться без всяких на то условий. ЯКУБОВИЧ. Да будет воля ваша, государь… (Отходит в сторону, скрывается в толпе). НИКОЛАЙ. Полковник, кто это был? Вы помешали мне рассмотреть. БЕНКЕНДОРФ. Простите, государь, мою бесцеремонность. Но он все время держал руку в кармане. И рука та дрожала. НИКОЛАЙ. Думаете, он хотел меня убить? БЕНКЕНДОРФ. Так держат наготове пистолет. Якубовича я знаю, он служил у графа Милорадовича. Кажется, сейчас вышел в отставку. НИКОЛАЙ. А что генерал Орлов? Где его коннопионеры? БЕНКЕНДОРФ. Сейчас выступают. И первый батальон Преображенского полка. Прикажете окружить восставших? НИКОЛАЙ. Действуйте, Александр Христофорович. БЕНКЕНДОРФ. Вы не уйдете во дворец? НИКОЛАЙ. Какой-то бред! Весь Петербург вышел на площади, все чего-то ждут. На здании Сената, на строящемся Исаакии, на всех крышах сидят, никто не знает, зачем собрались. И никто ничего не делает. Останьтесь со мной, Александр Христофорович! По крайней мере, один здравомыслящий человек будет рядом. (Пригибается, услышав завывание шальных залпов). Нет, полковник, я не боюсь свиста пуль. Если нынче мне суждено умереть, то мы с вами до конца исполним наш долг! БЕНКЕНДОРФ. Граф Милорадович сюда проталкивается. Не смею мешать. Я велю привести вам хорошего коня. (Отходит). МИЛОРАДОВИЧ. Государь, вы видите, что они со мной сделали? Вытряхнули из саней за воротник, порвали мундир, помяли ленту… Этих мерзавцев нужно просто стрелять! НИКОЛАЙ. Что я слышу! Генерал-губернатор Петербурга, который две недели всех пугал тем, что у него шестьдесят тысяч штыков в кармане, теперь такое говорит? Куда же смотрит возглавляемая им полиция? МИЛОРАДОВИЧ. Ваше величество, я готов доказать делом свою преданность вам и наследнику Александру Николаевичу. НИКОЛАЙ. Михаил Андреевич, пока нас никто не слышит. Возможно, меня сегодня убьют. Не сомневаюсь, что всю эту кашу заварили именно вы. Со Сперанским, Мордвиновым, Аракчеевым, Дибичем, не знаю, с кем еще… Кроме вас, никому бы такое не удалось. МИЛОРАДОВИЧ. Государь, клянусь честью!.. НИКОЛАЙ. Что вам еще остается? Выпустили джина из бутылки, а он сам вытряхнул вас из саней. Теперь вы к ним не сунетесь. Открыто возглавить бунт вы не можете, солдаты вас не послушают. А если станете убеждать бунтовщиков сложить оружие – вас убьют офицеры. Они не простят вам измены! МИЛОРАДОВИЧ. Коль уж ваше величество высказались откровенно, то позвольте и мне, старому вояке… Да, я призвал Государственный совет присягнуть не вам, как сказано было в завещании Александра Павловича, а брату вашему Константину. Только я руководствовался не выгодами вашей царственной семьи, а единственно благом Отечеству. НИКОЛАЙ. А каким интересом вы руководствовались, начеканив монет с профилем Константина, вывесив в витринах на Невском его портреты? Чтобы больше подогреть толпу, натравить на меня гвардию? МИЛОРАДОВИЧ. Теперь, когда Константин Павлович отказался покинуть Варшаву, я первый присягнул вашему величеству и готов до конца исполнить свой долг. НИКОЛАЙ. Долг генерал-губернатора – пресекать деятельность тайных обществ, арестовывать агитаторов, возмущавших по казармам солдат. Ведь не по неопытности вы этого не сделали, не по лености. Значит, по умыслу? МИЛОРАДОВИЧ. Что мне сделать, государь, чтобы доказать свою преданность трону? НИКОЛАЙ. Ведите на Сенатскую площадь кавалерию Орлова. В любом случае, вы отвечаете за порядок в Петербурге. Вот и ступайте, наводите порядок. Не смею больше задерживать. МИЛОРАДОВИЧ. Нет, лучше пусть я погибну, но на площадь выйду один. Нельзя допустить кровопролития. Прощайте, государь. Если не свидимся больше, то помните мои слова: я предан вам всей душой! К крыльцу подъезжает на лошади и спешивается великий князь Михаил Павлович, он пытается задержать графа Милорадовича, но тот машет рукой и уходит. Михаил подходит к Николаю. МИХАИЛ. Он хочет идти на Сенатскую площадь один? Это самоубийство! Я только что проскакал мимо – и в меня палили из ружей. Восставшие настроены крайне решительно, хотя у них нет никакого решительного плана действий. НИКОЛАЙ. Они ждут, что мы пойдем на переговоры. Только что подсылали ко мне парламентера. С пистолетом за пазухой. МИХАИЛ. Не лучше ли тебе скрыться во дворце? Я сам пойду на переговоры. НИКОЛАЙ. Мишель, они хотят убить всю нашу семью. Теперь я понимаю, зачем брат Александр уехал в Таганрог, меня отправил за границу, а Константина держал в Варшаве – заговорщики старались собрать нас вместе, чтобы легче было диктовать свою волю. Ничего у них не вышло! МИХАИЛ. А меня затем же вы гоняли по южным губерниям с инспекцией полков? Я рад, Николь, что ты обрел былую решимость. От утренней растерянности не осталось следа. Вместе мы одолеем неприятеля, тем более, есть на кого положиться. Дозволь представить, генерал Толь был со мной эту неделю в Ненаале. ТОЛЬ. Ваше величество, простите мою дерзость. Я военный и дело свое знаю. На Сенатской площади смутьяны выстроились в каре. Кавалерия Орлова хочет их атаковать. Но у лошадей подковы без шипов – на таких лишь в манеже гарцевать, а не по льду! Тут нужно артиллерию. Прикажите доставить сюда батарею. Пяти пушек будет довольно. НИКОЛАЙ. Я не имею вашего опыта войны, поэтому действуйте, генерал, как подсказывает обстановка. Моим именем приказывайте. Только помните, я не хочу крови в первый день моего царствования. МИХАИЛ. Залпы могут быть холостыми, лишь для острастки. Пока устанавливают пушки, я попробую поговорить с солдатами. Пусть убедятся, что меня не держат в кандалах, как злые языки им нашептали. Зимний дворец и Дворцовая площадь исчезают в вихре петербургской метели. Смеркается, короткий зимний день клонится к закату. На Сенатской площади солдаты окончательно окоченели. Перед строем встречаются Оболенский с Булатовым. БУЛАТОВ. Я был сейчас на Дворцовой площади. При мне два пистолета и кинжал. Подошел совсем близко к императору Николаю… И не смог! ОБОЛЕНСКИЙ. Зато мы смогли! БУЛАТОВ. Как? Вы убили царя? ОБОЛЕНСКИЙ. Нет, свалили птицу поважнее! Я Милорадовича с лошади – вшик! – штыком в спину. А Каховский в него разрядил пистолет. БУЛАТОВ. Разве граф Милорадович не на нашей стороне? Позвольте, вы говорили… ОБОЛЕНСКИЙ. Когда я говорил? БУЛАТОВ. На совещаниях у Рылеева. Ведь не из штаба генерала Бистрома вы приходили, а сами по себе? Разве Бистром и Воинов не заодно с графом Милорадовичем? Тогда я ничего не понимаю… Вы хотите сказать, что всю эту гнусную бучу устроили пять штабс-офицеров? ОБОЛЕНСКИЙ. Капитан, да у вас жар. БУЛАТОВ. Бред какой-то, в самом деле… Солдаты кричат: «Ура, Конституция!» – думая, что так зовут жену цесаревича Константина. Зачем их сюда гнали, никто не знает. На Дворцовой площади тоже толпы зевак, и тоже никто не понимает, что происходит. ОБОЛЕНСКИЙ. Милорадович мог повести нас всех за собой, но вместо того принялся уговаривать солдат вернуться в казармы. Клялся, что лично читал отречение Константина, показывал им подаренную шпагу. Нельзя было допускать, чтобы строй дрогнул. Теперь пути к отступлению нет! БУЛАТОВ. Оболенский, хоть ты возьми на себя роль диктатора, коль Трубецкой сбежал. И Рылеев тихо растворился. Веди нас куда-нибудь… ОБОЛЕНСКИЙ. Куда тебя вести? Ты совсем болен, тебе домой надо. БУЛАТОВ. Пустяки, лишь бы не свалиться в решительную минуту. Что это, против нас выкатывают пушки? Совсем стемнело. Сквозь пелену метели сначала показалась яркая вспышка, потом до площади докатился глухое эхо пушек. Все исчезает в облаке порохового дыма. В Зимнем дворце молодая и старая императрицы в угловом кабинете стоят у окна, пытаясь что-то разглядеть во мгле. Стекла дрожат от артиллерийских залпов. В кабинет вбегает Николай. ЖЕНА. Наконец-то! Я вся издергалась, пока тебя ждала. МАТЬ. Ники, зачем ты гарцевал по площади на лошади? А Мишель в белом парадном мундире – мишени лучше не придумать. Какое мальчишество! Да еще с черным султаном на голове… НИКОЛАЙ. Не подходите к окнам, шальная пуля досюда может долететь. ЖЕНА. Зачем по толпе бьют картечью? Ты приказал? Я видела тебя у пушек. НИКОЛАЙ. Дорогая, так было нужно. Стало смеркаться, а под покровом ночи к заговорщикам могла присоединиться чернь. Мы с Михаилом командовали, артиллеристы никого другого не послушали бы. МАТЬ. Какой позор! Что теперь скажут в Европе? ЖЕНА. Я не хочу, чтобы в первый день твоего правления лилась кровь наших поданных! Пощади их ради меня. НИКОЛАЙ. Заговорщики тебя не пощадили бы! Гляди, ты вся дрожишь. ЖЕНА. Нет, с тобой я покойна. Только прошу, ради Бога, вели прекратить огонь. Ведь бунтовщики разбежались, зачем добивать? МАТЬ. Ники, я заметила, когда на площади ударила первая пушка, у Александры стала мелко подергиваться голова. НИКОЛАЙ. Это нервное, сейчас пройдет. МАТЬ. С Мики приехал лейб-хирург Виллие. Можно ему показать государыню. Прикажи его разыскать, он во дворце. Днем он докладывал мне о смерти Александра, с ним официальные бумаги. НИКОЛАЙ. Хорошо, маман, не сейчас. МАТЬ. Ты должен все узнать сейчас же. Дело в том, что у баронета большие сомнения насчет кончины нашего Ангела. НИКОЛАЙ. Что? Он умер не своею смертью, его убили? МАТЬ. Еще невероятнее! До меня уже доходили слухи, будто Александр исценировал собственную смерть. НИКОЛАЙ. Почему же – невероятно? Он всегда говорил, что хочет абдикировать и жить уединенно, частным лицом. Давайте Виллие сюда. Мария Федоровна выходит. Ей в дверях кланяется сын Михаил. МИХАИЛ (входит). Николь, ты писал графу Милорадовичу в казармы конногвардейцев? НИКОЛАЙ. Умер, не успев прочесть моего письма? МИХАИЛ. Прочел, благодарил тебя. Просил передать последнее желание. Представь, распорядился отпустить на волю всех своих крестьян. НИКОЛАЙ. Понятно. Хочет этим показать, что разделяет требования сегодняшних мятежников. Говорил же я, войска на площадь просто так не выйдут – заговорщиками должен был руководить могущественный покровитель. А кто в Петербурге сильнее генерал-губернатора? Впрочем, пусть умрет героем, не станем привлекать его к ответственности – из гроба. МИХАИЛ. Кого еще назначишь ты героем за сегодняшнее недоразумение? НИКОЛАЙ. Ты почитаешь бунт, заранее спланированный и широко разветвленный, обычным недоразумением? МИХАИЛ. Я подъезжал к рядам мятежников, говорил с ними. Солдаты вовсе не понимали, зачем их вывели на площадь. Офицеры, ходившие пред строем, тем более не знали, что им делать. Похоже, один князь Оболенский сохранял решимость, однако его навряд ли слушали… Нет, это был не мятеж. Самое большее – акт устрашения Сената. Но и с этим инсургенты опоздали. НИКОЛАЙ. Тем не менее, мы должны принять меры и немедленно. (Поворачивается к Бенкендорфу). Генерал! БЕНКЕНДОРФ (подходит, щелкнув каблуками). На квартиру к Трубецкому уже послан князь Голицын. Полковник Булатов здесь, за дверьми. Прикажете лично допросить? НИКОЛАЙ. Я рад, Александр Христофорович, нынче наша взяла. Однако удивляюсь, как вы все успеваете. Позвольте мне отблагодарить вас. БЕНКЕНДОРФ. Сейчас не время, ваше императорское величество. А с Булатовым – не моя заслуга. Сам явился во дворец с покаянным признанием. НИКОЛАЙ. Введите его. Мишель, останься, удостоверься, что приключившееся сегодня – не простое недоразумение. (Вводят Булатова, тот шатается от слабости, однако старается держаться прямо. Николай подходит к нему). НИКОЛАЙ. Вы дерзнули пойти противу своего государя? БУЛАТОВ. Нас обманули, ваше величество. Готов признать свою вину, что убедил вверенных мне солдат противодействовать присяге в Сенате. Однако на площади я их удерживал, чтобы не палили из ружей. Надеялся, что все разрешится мирным путем. Ваше величество, казните меня! НИКОЛАЙ. Кто непосредственно вас ввел в заговор? Кто поручал вести к Сенату ваш полк? БУЛАТОВ. Пожалейте меня, государь, не хочу быть доносчиком. НИКОЛАЙ. Зачем же вы явились во дворец, если никого не хотите выдавать? Или вы пришли убить меня? БУЛАТОВ. Свое оружие я бросил на крыльце, сдался караулу добровольно. Я весь день был на Сенатской площади, но так и не добился, кто же это все затеял, кто реально возглавляет выступление. Никого из тех, кто накануне говорил со мной, на площади я не увидел. Посему заключаю, что все происшедшее было дьявольской путаницей, бесовским наваждением. А шел я к вам с мольбой, чтоб не считали виновными моих солдат. Я один виноват! Если вы меня сейчас же не казните, то я сам… (Разбегается и со всей силы бьется о стену головой. Его хватают за руки, выносят из залы. Бенкендорф у дверей отдает распоряжения. Михаил отводит брата в сторону). МИХАИЛ. Ники, ты хочешь сам допрашивать всех заговорщиков? НИКОЛАЙ. Позже мы создадим следственную комиссию. А пока, по горячим следам, нужно заставить их говорить! МИХАИЛ. Тогда не раздражайся так. Прошу тебя, государю следует держаться выше происходящего. БЕНКЕНДОРФ. Накануне полковник Булатов участвовал в совещании заговорщиков на квартире у писателя Рылеева. К нему заходил Федор Глинка, что-то говорил ему наедине. Возможно, передал план выступления. МИХАИЛ. Глинка – который поэт? БЕНКЕНДОРФ. Этот поэт заведует канцелярией у Милорадовича. НИКОЛАЙ. Мальчишки, поэты! Вот до чего доводят французское вольнодумство и германский романтизм! Александр Христофорович, велите арестовать Рылеева и Глинку. И всех, всех, кто был у них! БЕНКЕНДОРФ. Уже послано, ваше императорское величество. НИКОЛАЙ. Вы предугадываете мои мысли! БЕНКЕНДОРФ. Помилуйте, государь, как я мог бы осмелиться… Вы сами распорядились, еще на площади. Ввести? (Кивает часовым у дверей. Ты впускают князя Трубецкого). ТРУБЕЦКОЙ. Пощадите, государь! Не меня, семью мою пощадите! НИКОЛАЙ. Негодяй! Ты посмел избрать себя диктатором восстания? Ты, князь! Потомок такого знатного рода… Подонок! Герой Отечественной войны… И встал во главе этой банды мальчишек? ТРУБЕЦКОЙ (падает на колени). Не губите, sir! (Целует Николаю руки). Vie, sir, vie! НИКОЛАЙ (отталкивает его грубо). Прочь с глаз моих! Мерзавец! Пойди, пиши письмо родным, прощайся с ними навсегда! МИХАИЛ. Нельзя так, Ники, в самом деле. Держи себя в руках! НИКОЛАЙ. Оставь, Мишель, ты видишь, я спокоен. По-другому этого рубаку на колени не поставишь, только окриком. Вот увидишь, через пять минут он расскажет обо всем, что знает. Следующий! (Бенкендорф кивает часовым. Те впускают Рылеева). РЫЛЕЕВ. Готов признаться во всем, кроме фамилий. НИКОЛАЙ. Нам без того известно, кто бывал у вас на квартире и в помещениях Русско-американской компании. Последняя просьба имеется? РЫЛЕЕВ. Мы бедны, у меня старый отец, малые дети… НИКОЛАЙ. За детей не беспокойтесь, я велю определить им капитал в две тысячи рублей. А отцу напишете письмо. РЫЛЕЕВ. Вы позволите? Это так благородно с вашей стороны… НИКОЛАЙ. А со своей стороны – не имеете ничего сказать о том, что произошло сегодня на площади? РЫЛЕЕВ. Не сегодня. И не на площади. Считаю долгом своим предупредить: заговор распространился широко по всей империи. О его разветвлениях в южных губерниях все знает Трубецкой. Там, в приемной, князь, должно быть, пишет уже признание. НИКОЛАЙ. И вы ступайте. Вам дадут перо и бумагу, чтобы написать отцу. (Из другой двери в залу входят старая и молодая императрицы – Мария Федоровна и Александра Федоровна. Их сопровождает Виллие). МАТЬ Послушай, Ники, что скажет баронет! Смерть Александра обернулась чудовищнейшей авантюрой! ВИЛЛИЕ (кланяется низко). Я этого не утверждаю, государь. Однако все происходившее при мне за последние дни в Таганроге навевает страшные подозрения. НИКОЛАЙ. Что, Александр жив? ВИЛЛИЕ. И этого не утверждаю. Только в смерти брата вашего я не виновен! Он сам отказывался от лекарств, он вел себя престранно. Ваше величество, клянусь, я никому об этом не говорил и впредь – могила. НИКОЛАЙ. Надеюсь… ежели и впрямь не хотите в могилу. А супругу мою вы смотрели? МАТЬ. Что случилось с Александрой? Почему ее голова все время трясется? Доктор, это неизлечимо? ВИЛЛИЕ. Нервный тик. Реакция на нынешние грозные события. Государыне Александре Феодоровне нужно несколько часов, а может пару дней покоя. И все пройдет. ЖЕНА. Это не пройдет никогда. Так хорошо нам никогда уже не будет, слышишь, не будет так, как было… НИКОЛАЙ. Не говори так, Лалла. Я постараюсь сделать все, чтобы ты была счастлива. ЖЕНА (часто трясет головой, что можно расценить, как знак отрицания). Я видела тебя сегодня на площади, когда ты отдавал приказ артиллеристам палить по площади картечью. Ты очень изменился за этот длинный страшный день. И голос твой стал груб, как гром военных труб. НИКОЛАЙ. Что ж, мы уже не будем прежними. Все кончено. МАТЬ. Ах, дети, дети… Все только начинается.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ Саров, 19 сентября 1826 года.
Поляна в лесу, на крутом берегу реки Саровки, под высокой сосной стоит свежесрубленная келия с увенчанной крестом церковной маковкой на односкатной крыше. У крыльца толпятся богомольцы различных состояний и возрастов. К ним из часовенки чернец выводит согбенного старца в белом балахоне и камилавке.
СТАРЕЦ. Не обессудьте, сердешные, что я, убогий затворник Саровский, не смогу вас нонче всех принять. Ступайте с миром и да будет на всех нас благословение Господне. Христос воскресе! ЧЕРНЕЦ. Примите, православные, сухарики из чугунка батюшки нашего. Разжуйте неторопясь, с молитвою Иисусовой, и запейте водичкой святой из родника, благословенного нашим старцем. Раздает сухарики, богомольцы торопятся под гору, к источнику. Поляна постепенно пустеет. Чернец останавливает барыню. БАРЫНЯ(пугается). Qu’est-ce qu’il y a? ЧЕРНЕЦ. Excusez, madame! Est-ce votre fille? Мадемуазель Софи? БАРЫНЯ. Да, это моя дочь. Парле ву франсе? Признаться, не ожидала встретить в глухом лесу богомольца в лаптях, говорящего по-французски. ЧЕРНЕЦ. Вокруг старца теперь собирается много людей из общества, даже высшего света. Сейчас он ждет генерала из самого Петербурга. Пока же батюшка просли меня побеседовать с вами, а дочку вашу приглашает к себе в келию – вместе с ним помолиться. Пожалуйте, мадемуазель. БАРЫНЯ. А я? ЧЕРНЕЦ. Сударыня, простите, старец приглашал дочь одну. БАРЫНЯ. Софи, я буду ждать тебя…
Софи входит на крыльцо, дверь перед ней открывается. Старец улыбается и зовет: «Поди ко мне, радость моя». Через незакрытую дверь видно, что узкая келия вся уставлена десятками горящих свечей и лампадок. Напившись из родника, богомольцы возвращаются и неспеша отправляются в обратную сторону, в Саров. БАРЫНЯ. Почему он стал вдруг христосоваться? Ведь до Пасхи еше полгода. ЧЕРНЕЦ. Считает, что Светлое Христово Воскресенье не кончается никогда. Ваша дочь серьезно больна? (Улыбается). Какое совпадение! Мою дочь тоже звали Софи, она умерла запрошлым летом от скоротечной чахотки, накануне своей свадьбы. Мы хоронили ее в подвенечном платье. БАРЫНЯ. (сторонится, как от прокаженного). Зачем вы мне это говорите? В самом деле, у моей дочурки доктора подозревают эту хворь, советуют ехать к морю, а лучше за границу… ЧЕРНЕЦ. Моей жене врачи насоветовали то же самое. Поехали мы к морю год назад… Царствие ей небесное! БАРЫНЯ. Зачем вы меня пугаете? Вот несносный человек… ЧЕРНЕЦ (добродушно улыбается). Чтоб вы поверили, сударыня! Старец позвал вашу дочь помолиться к себе, стало быть, знает, как ей помочь. Он не врач, он просто повторяет людям то, что ему велит Царица Небесная. Знать бы раньше мне сюда дорогу – и супруга, и дочь были бы сейчас живы! БАРЫНЯ. Кажется, тот генерал подъехал? Ах, как не вовремя! ЧЕРНЕЦ. Ничего, вы пока займите господ разговорами, чтобы старцу не мешать. А я помолюсь, чтобы все у вас было хорошо.
Он отступает к крыльцу, отворачивается от барыни. С противоположной стороны, куда уходили богомольцы, на поляну выходят Николай, Соломко, Бенкендорф и Волконский. КНЯЗЬ. Народ уже расходится. А коляска сюда вполне могла проехать. НИКОЛАЙ. Ничего, прогулялись лесом две версты, на пользу. Значит, это и есть ближняя пустынька старца? БЕНКЕНДОРФ. Сейчас узнаем. (Подходит к барыне, кланяется ей). Честь имею, сударыня. Нам в монастыре сказали, что старец нынче принимает богомольцев здесь. Мы не опоздали? БАРЫНЯ. Батюшка молится сейчас с моею больною дочкой. Позвольте отрекомендоваться, нижегородская помещица Колычева. Нас известили, что он ждет генерала из Петербурга, однако мы покорнейше просим подождать, покуда он не поможет моей Софи. А тот седовласый великан и есть генерал? БЕНКЕНДОРФ. Совершенно верно – князь Волконский, гофмаршал императрицы. А мы его адъютанты. БАРЫНЯ. Сразу видно столичное обращение. Поверьте, сударь, в три этих дня, что мы с Софи на богомолье, я так устала среди простолюдинов, терпя лишения, нечистоту и невежество. Дочь молится в келии с батюшкой, а меня, представьте, послушник туда не пускает. ЧЕРНЕЦ. В келии двоим не развернуться, сударыня, тем более вы в изрядном теле. БАРЫНЯ. Вы слышали, месье? БЕНКЕНДОРФ. Должно быть, он выполняет волю монастырского начальства. Так ли, любезнейший? ЧЕРНЕЦ. В монастыре сие зовется послушанием. Настоятель послал меня записывать поучения старца. И помогать ему во всем. БЕНКЕНДОРФ. Может ли он принять нашего старого князя? ЧЕРНЕЦ. Из монастыря недавно приходили сказать о генерале. Старец ждет его. Старец выходит на крыльцо проводить девушку, крестит ее и кланяется вслед. Софи подходит к матери. БАРЫНЯ. Ну, что сказал тебе убогий? СОФИ. Велел пожить полгода при обители в Дивееве, на мельнице. БАРЫНЯ. Полгода! Ведь уже сентябрь. Как мы перезимуем на мельнице? СОФИ. В том все и дело, матушка, что я останусь зимовать одна. А ты внесешь за меня келейную плату и вернешься домой. БАРЫНЯ. Что? Оставить тебя здесь одну! (Бенкендорфу) Вы слышали? Нет, это уму не постижимо! ЧЕРНЕЦ. Не спешите все постичь умом, сударыня, послушайте прежде материнское сердце. Хотите же вы, чтобы дочь ваша излечилась? БЕНКЕНДОРФ. Совершенно верно, сударыня, вот и наш светлейший князь слышал, что Саровский старец многих исцеляет. ЧЕРНЕЦ. Не он лечит, а чрез праведные молитвы его – Царица наша Небесная. Успокойтесь, сударыня, поезжайте с дочкой в Дивеево, тут верст двенадцать всего. Посмотрите сами на житие сестер в обители. Спросите там Елену Васильевну Мантурову. Сия девица из дворян, дочь почтенных родителей. Батюшка наш поставил ее покровительствовать над мельничной общиною, составленную из сестер, не бывших в замужестве. СОФИ. В самом деле, матушка, поедем нынче же. Ведет мать к выходу. Старец выглядывает из двери, крестит им путь. Кивает приезжим. КНЯЗЬ. Ваше величество, кажется, старец зовет вас к себе. НИКОЛАЙ. Петр Михайлович, мы же договорились, никто не должен знать, кто я. (Старец снова машет ему). Да, в самом деле, кажется, меня… Направляется к часовенке. Старец кланяется ему до земли, становясь на колени. Николай помогает ему подняться на ноги, целует ему руку. Следует за ним в келью. Волконский и Соломко подходят к барыне, которая склоняется в реверансе. БЕНКЕНДОРФ. Ваше сиятельство, позвольте представить, нижегородская помощица Колычева с дочерью своей хотели засвидетельствовать вам свое почтение. БАРЫНЯ. Прошу покорнейше вашего совета, князь! Видите ли, дочь моя больна, доктора советуют везти Софи – и срочно! – за границу. Однако, по вдовству своему средств на то не имея… должна ли я исполнить волю здешнего старца, который велит оставить дочь в Дивеевской обители? КНЯЗЬ. Я только что из Троице-Сергиевой лавры. Там мне говорили: старец Саровский – истинный подвижник веры Христовой, имже молитвами спасется земля русская! Не сомневайтесь, матушка, а барышне – доброго здравия и душевного покоя желаю. БАРЫНЯ. Что ж, остается внять вашему мудрому совету, князь. Поедем же, Софи, в Дивеево. Прощайте, господа! (Уходят в сторону Сарова). КНЯЗЬ. Что за человек там, возле избы? БЕНКЕНДОРФ. Послушник старца. Хотите с ним поговорить? Судя по речам, он из образованных, хотя оброс бородой и обут по-крестьянски. КНЯЗЬ. Милейший, как вас величать… мы хотели бы напиться. СОЛОМКО (подходит к чернецу). В монастыре говорили, что здесь, на ближней пажинке, открылся недавно родник, вода в котором признана целебной. ЧЕРНЕЦ. Хочешь, чтоб я принес, Афоня? Сию минуту, любезный. СОЛОМКО. Наш Ангел! КНЯЗЬ (падает перед ним на колени, рыдает). Дал Господь счастья свидеться… ЧЕРНЕЦ. Встаньте, князь. Мне в самом деле приятно будет принести вам воды. Ведь я не господин вам более, а всего лишь здешний гостинник. БЕНКЕНДОРФ. Что с вами, Петр Михайлович? ЧЕРНЕЦ. Вы должны молчать, что бы тут не увидели. БЕНКЕНДОРФ. Понимаю. Моя должность обязывает хранить государственные тайны. Позвольте представиться, начальник третьего отделения Его Императорского Величества канцелярии и шеф корпуса жандармов Бенкендорф – к вашим услугам. КНЯЗЬ. Александр Христофорович, вот тот, к кому мы мчали сюда целые сутки. (Плачет). Благословенный тезка ваш, душа всей моей жизни! БЕНКЕНДОРФ. Виноват, не узнал. Государя императора Александра Павловича мне доводилось видеть ранее лишь на парадах и портретах. АЛЕКС. Очень хорошо, к тому я теперь и стремлюсь – чтобы меня не узнавали. И брат прошел мимо, не признал… Хорошо, что старец сразу позвал его к себе. После совместной молитвы и благословения Николаю будет легче говорить со мной. СОЛОМКО. А чтобы вам поговорить с Петром Михайловичем, мы с Александром Христофоровичем удалимся. Заодно принесем князю воды напиться. Бенкендорф и Соломко уходят. Волконский приблизился к Александру. КНЯЗЬ. Поверьте, ангел мой, я вас не выдал! АЛЕКС. А что это за третье отделение? При мне такого не было. КНЯЗЬ. Тайный сыск. Новый государь окружает себя молодыми. Хотя и нас, стариков, не обижает. АЛЕКС. Быстро же меня сыскали! Моли Бога, чтобы все устроилось… без крови. Надеюсь, Николай не вздумал тайно избавиться от меня? КНЯЗЬ. Да что же ты такое говоришь, благословенный! Наш нынешний император по любому поводу божится, что на троне станет исполнять твою волю. И за мной послал, чтобы сопровождать его сюда, в Саров. Всю дорогу выспрашивал нас с Афанасием, как отнесешься ты к его приезду. Он настроен выслушать твои наставления и напутствия к своему царствованию. АЛЕКС. Что же я ему должен советовать? Жить своим умом и идти своей дорогой. Если не ты меня выдал, то кто же? Соломко? КНЯЗЬ. В бумагах Елисаветы Алексеевны нашли компрометирующие сведения… Ты знаешь, да? АЛЕКС. Слышал, умерла. Но не знаю – где и как. КНЯЗЬ. В Белёве Тульской губернии. Зиму она оставалась со мной в Таганроге, потом мы ее отправили в Крым, до весны она прожила в Ореанде. И на мнимых твоих похоронах в Петербурге не была. Императрица Мария Федоровна требовала ее приезда в столицу, наконец, уставши ждать, сама выехала навстречу. Я сопровождал вашу матушку. Мы были в Москве, когда принесли известие о кончине Елисаветы. При ней в Белеве был Соломко. После он сказывал по секрету, что у супруги твоей нашли какие-то пилюли… Уж не те ли самые, которыми тебя хотели отравить? АЛЕКС. Бедная Лиза! Так и не отдала мне их. Думаешь, она сама? КНЯЗЬ. Кто ж теперь знает. Верно, боялась встречи с грозной вашей матушкой – и решилась на такое, чтобы тебя не выдать… АЛЕКС. Тогда зачем было оставлять дневники и бумаги? КНЯЗЬ. В народе сказывают, будто и она, как и ты, не умерла совсем, а тайно ушла в монастырь! АЛЕКС. Этого только не хватало… Впрочем, народ всегда сочиняет легенды о почивших государях. Матушка что, здорова ли? КНЯЗЬ. Мария Федоровна после событий 14 декабря долго болела, сильно сдала. Впрочем, возможно, в вашу глушь не доходили известия… АЛЕКС. В общих чертах я слышал о восстании на Сенатской площади. Пятеро повешенных. Десятки сосланных в Сибирь. В случившемся, и ты тому свидетель, нет моей вины – мы сделали все возможное, чтобы разрушить планы заговорщиков. КНЯЗЬ. Граф Милорадович убит в тот день на площади – и теперь в глазах общества чуть ли не герой! Ему повезло бы гораздо меньше, останься он живым. АЛЕКС. Ах, дядька, как хотелось бы с тобой поговорить подольше! Но, видно, не придется. Знай, я искренно любил тебя и всегда буду Бога молить о твоем здоровье. КНЯЗЬ. Ангел мой, Алекс! Ты простил меня, старого дурака? Клянусь Богом, я тебя не выдавал. Даже матушка твоя Мария Федоровна не знает ничего, хотя дурак Виллие успел ее напугать своими сомнениями и догадками. АЛЕКС. А Николай? Сильно гневался на меня? КНЯЗЬ. Нет, в случившемся междуцарствии и последовавших волнениях он склонен винить Константина. Даже на коронацию не хотел брата приглашать. Матушка настояла. Его вызвали из Варшавы в последний момент, Константин едва успел примчаться в Москву. АЛЕКС. Сюда вы инкогнито? Я слышал, три адъютанта сопровождают гофмаршала на богомолье. КНЯЗЬ. Да, такое мы придумали прикрытие. В Москве идут балы по случаю коронации. Москвичи видят Михаила точно в таком мундире, как у Николая, и в крытой коляске принимают его за государя. А мы рванули сюда. АЛЕКС. Тем легче будет от меня избавиться. Никто ничего не узнает. Все равно Николаю я мешаю. Пока живой. КНЯЗЬ. Брата не опасайся, поверь старому придворному шуту, я вижу, у Николая нет дурных намерений. АЛЕКС. Ты стар, дядька, ты совсем не понимаешь нынешнюю молодежь. Они гораздо умнее и практичнее нас, романтиков. Если государственный «здравый смысл» подскажет им, что надо перешагнуть через труп родного брата, они не остановятся. Впрочем, думаю, отец Серафим не зря пригласил его сначала к себе в келию. Посмотрим, что он скажет после совместной молитвы и благословения. Николай выходит на крыльцо, поддерживая под руку старца. СТАРЕЦ (кивает Александру). Поди к нам, радость моя. КНЯЗЬ. Не буду вам мешать. Пойду к роднику, придержу Бенкендорфа с Афонею. Волконский уходит вниз под гору. Алекс подходит к крыльцу. Николай целует старцу руку. Медленно выпрямляется, долго смотрит в глаза Алексу. СТАРЕЦ. Обнимитесь же, братья! Позвольте мне, убогому, быть при вашей встрече. Вы тут сядете на крылечке, а я пойду к чудотворному образу и буду молиться за вас Царице нашей Небесной. Братья обнимаются. Старец уходит в келию, оставив дверь открытой. АЛЕКС. Здравствуй, брат. Рад тебя видеть. НИКОЛАЙ. Не узнал. Прошел мимо, надо же… Непривычно видеть тебя с бородой. Нет, даже не это. Я никогда не видел тебя улыбающимся! Во власти ты всегда оставался сумрачен и скрытен. АЛЕКС. Поверь, я никогда так не был в жизни счастлив, как теперь, после смерти… Ты ведь понимаешь, на уход меня побудили причины наисерьезнейшие свыше всякой меры! НИКОЛАЙ. Да, ты однажды говорил нам с Лаллой, что хочешь оставить престол и уйти в частную жизнь. Предупредил, что мне придется царствовать вместо Константина, поскольку лишь у нас есть сын-наследник. АЛЕКС. Кстати, как Сашенька? Большой уже стал? НИКОЛАЙ. После восстания в Петербурге, за которым он весь день следил в окне Зимнего дворца, наследник Александр Николаевич не по годам повзрослел. Стал прилежно учиться, слушается воспитателей. В общем, умница! Я горжусь сыном. АЛЕКС. Рад за племянника. Буду Бога молить за его здоровье, чтобы стал достойным воспреемником династии Романовых. Значит, брат Николай, ты готов понять и простить меня? НИКОЛАЙ. За что простить! Ты всегда мечтал абдикировать, жить частным человеком, оставив трон. АЛЕКС. К сожалению, сделать это открыто и официально не удалось. Не было никакой возможности. Поверь, я хотел умереть. Однако самоубийство противно моим религиозным убеждениям. Позволить же заговорщикам убить себя – еще более казалось невозможным. Прости, но порой мне думалось, что заговорщики ищут убить меня с твоего деликатного согласия. НИКОЛАЙ. Клянусь, я чист пред тобой! Я не знал родителя нашего, оттого всегда относился к тебе, как к отцу. Тем более, ты старше меня почти на двадцать лет. АЛЕКС. Тем не менее, ты слышал наверное, и не раз, что мне приписывают участие в заговоре против нашего отца Павла Петровича. Слух о том, что я все знал о плане Палена и Панина, усиленно распространялся ими же самими. Мать наша до сих пор меня считает отцеубийцею. Я все равно не смог бы никогда отмыться от подобной чести… Я несу на себе этот крест всю жизнь. НИКОЛАЙ. И теперь готов подозревать меня в такой же дикости! Впрочем, ты прав. Мертвый ты мне был бы менее опасен… Поэтому я счел необходимым объясниться с тобою лично и начистоту. Может быть, первый раз в своей жизни поговорить с тобой, как брат с братом. Раньше мешали разница в возрасте и положении. Ты был государем, нашим Ангелом, на которого молился весь двор. Жена моя до сих пор считает тебя верхом совершенств, вспоминает все время, как перед отъездом в Таганрог ты брал ее в Царском Селе на свои утренние прогулки. Вы долго гуляли и говорили по-немецки… АЛЕКС. Как она, наша несравненная Лалла? НИКОЛАЙ. После мятежа 14 декабря у нее сделалось неизлечимое нервное расстройство. Все время подергивается голова, как у старухи. АЛЕКС. Бедняга! Впрочем, чтобы не терять времени, давай не перебивать друг друга. Сначала ты расскажи обо всем, что случилось у вас в Петербурге с того момента, как узнали о моей смерти. А потом я поведаю свои приключения… НИКОЛАЙ. Да, я хотел обо всем рассказать. Начать с дневника твоей супруги Лизе. (Достает из-за обшлага тетрадь). Все видели, как я собственноручно сжег ее бумаги. Но дневник я спрятал заранее, чтобы отдать тебе. Она умерла в Белеве. АЛЕКС. Как! Лизхен умерла? НИКОЛАЙ. А разве старый дуралей Волконский тебе не говорил? АЛЕКС. Нет… Дядька, видно, пожалел меня, не хотел расстраивать. Бедная Лиза! (Он ходит по поляне, переживая довольно натурально. Тут же из-под горы появляется Волконский, за ним Соломко и Бенкендорф). БЕНКЕНДОРФ. Кстати, автор «Бедной Лизы» Николай Михайлович Карамзин почил тоже в мае месяце. НИКОЛАЙ. Старик писал мне манифест к восшествию на престол. Недавно умер в Царском Селе, тихо и незаметно. ВОЛКОНСКИЙ. Не желаете святой воды испить, ваши величества? НИКОЛАЙ. Петр Михайлович, я же вам говорил, не величайте меня так. Мы здесь инкогнито. (Пьет). Очень холодная. Но вкусная. АЛЕКС. Меня тем более нельзя так называть. (Пьет). Вот и помянули рабу Божию Елисавету… И Карамзина, конечно. Жалко старика. Кто же будет теперь писать историю Государства Российского? НИКОЛАЙ. Охоту изъявил, представь себе, твой тезка Пушкин. Я пригласил его в Москву на коронацию. Третьего дня мы долго говорили с ним в Чудовом монастыре. АЛЕКС. Что дельного умеет написать сей сочинитель «Гаврилиады»? ВОЛКОНСКИЙ. Певец «Руслана и Людмилы» теперь уже не тот! СТАРЕЦ. Сухарики мои предложи братцу, радость моя. Вот ведь, и угостить гостя больше нечем, хлеб да вода. НИКОЛАЙ. А вы сами только этим питаетесь? Хорошо ли вас кормят? СТАРЕЦ. И это слава Богу! Вот когда я на дальней пустыньке жил затворником, бывало, из монастыре мне на неделю хлеба принесут, а я его медвежонку скормлю. Сам же в кипяточке запарю снытки. Почитай, три года одною травой кормился! И ничего убогому не сделалось. (Уходит в келию). НИКОЛАЙ. У него руки пахнут кипарисами! Откуда в этой тайге найтись сему тропическому растению? АЛЕКС. Так, должно быть, благоухает в раю. Это истинный праведник святой жизни. НИКОЛАЙ. О чем мы говорили? Ты несправедлив к Пушкину, брат. По молодости он, возможно, писал непозволительно вольные стишки. Однако ссылка пошла ему на пользу. Поэт много передумал, перечувствовал. Между прочим, в Михайловском он сочинил драму «Годунов», которую с успехом читает во многих домах Москвы. Мне тоже преподнес экземпляр. Очень занятно. Я привез тебе почитать, если когда-нибудь найдешь время… ВОЛКОНСКИЙ. А еще роман в стихах начал. Первые главы «Онегина» весьма искусны! БЕНКЕНДОРФ. Пушкин признался, что тоже вышел бы на Сенатскую площадь, если бы находился в тот день в Петербурге. НИКОЛАЙ. Он поступил бы так, но не по убеждению, а потому что там, на площади, все были его друзья. В Чудовом монастыре у меня сложилось впечатление, что я говорил с одним из умнейших людей в России. АЛЕКС. Может быть, не знаю… Для меня беседы с батюшкой нашим заменяют всех Пушкиных с Грибоедовыми. БЕНКЕНДОРФ. Грибоедова также упоминали арестованные по делу 14 декабря. Пришлось его этапировать из Грозного. НИКОЛАЙ. Однако наш умный очкарик решительно все отрицал и сумел уйти от ответственности. Улик на Грибоедова не нашлось никаких. АЛЕКС. Я рад, что Грибоедов оказался чист перед престолом. Он пригодится в Персии. Это мой единственный дипломат, который говорит на фарси. Он будет незаменим в продвижении твоем к Индийскому океану. НИКОЛАЙ (вздрогнул, обернулся на присутствующих). Ты считаешь, что России надлежит идти на юг? АЛЕКС. Европа – маленькая старая барыня, она без нас обойдется. Я не случайно учредил Американо-Российскую компанию… БЕНКЕНДОРФ. Управляющий сей компанией Кондратий Рылеев, кстати, казнен в числе самых опасных зачинщиков. НИКОЛАЙ. Александр Христофорович, позвольте с братом нам поговорить тет-а-тет. Оставьте мне ту записку Следственной комиссии и подите куда-нибудь. БЕНКЕНДОРФ. Слушаюсь. (Подает из папки бумагу). Осмелюсь лишь напомнить, вы хотели засветло добраться до почтовой станции. СОЛОМКО. Еще водички, может, принести? АЛЕКС. Если не трудно, натаскайте в сенцы, ведь старцу тяжело в гору с ведрами… (Волконскому). А ты посиди под дубом, дядька, ту лавочку сам батюшка смастерил. (Оставшись с братом наедине). Экий дока твой Александр Христофорович… О чем мы говорили? Христофор Колумб открыл Америку. И люди помнят о том в веках. Как не забудут и того, что пять лет назад российские мореходы открыли новый материк – Антарктиду! Кто знает, какие богатства скрываются под ее льдами? И кратчайший путь к тому континенту лежит через Персию и Индийский океан. Впрочем, нет смысла тебе советовать. Ты знаешь сам, мечтания мои часто оказывались преждевременны. Как, например, идея Священного Союза – прекрасная мечта о братском единении европейских монархов на евангельских началах… выродилась в грязную кухню дипломатических интриг. Верно, народы Европы не созрели, чтобы объединятся, нужно подождать еще лет сто или двести. НИКОЛАЙ. Жизни нашей не хватит. Посему я хотел бы сосредоточиться на практический прожектах. Скажем, хочу построить первую в России железную дорогу – сначала от Петербурга до Царского Села. Потом, даст Бог, и до Москвы… Паровые машины – дело новое и перспективное. АЛЕКС. Пожалуй. Ты молод, дерзай. А лет через сто твой внук, глядишь, дотянет ту дорогу до Китая! НИКОЛАЙ. Про моего внука – это тебе святой старец предсказал? Ему все известно, что нас ждет в грядущем? АЛЕКС. Он многое рассказывал. А с тобою он в келье о чем говорил? НИКОЛАЙ. Мы большей частью с ним молились. Нет, он говорил, конечно, разные слова… да я не понял. АЛЕКС. Он говорил с тобою не по-русски? (Улыбаясь, обнял брата). Ах, Николь, мне так хотелось бы, чтоб ты понял! В своих бесчисленных поездках по стране я убедился, что не знаю России совершенно. Ведь государи на самом деле управляют карликовым государством, границы коего простираются, пожалуй, лишь от Петербурга до Царского Села. И поданных в том государстве не наберется и ста тысяч – это кучка знатных, образованных, привелигированных. Они носят европейские фасоны, говорят в основном по-французски. По необозримым пространством другой России мы ездим, словно иностранцы. Я это видел, и тебе предстоит… К твоей карете будут сбегаться толпы крестьян, валиться в придорожную грязь, кланяясь до земли. Однако же смотреть они будут на тебя, как на существо чужеродное, спустившееся к ним чуть ли не с небес. В той бескрайней матушке Расее носят другие одежды, говорят на диалектах, образованным людям непонятных, и живут по неписанным дедовским законам – чуть ли не языческим! Мы считаем их дикими азиатами, а на самом деле наши поданные – это другая страна, их больше сорока миллионов человек. И поглотить своей имперской машиной такую глыбу мы никогда не сможем! НИКОЛАЙ. Зачем же ты ушел в ту дикую страну? АЛЕКС. По этому поводу Бенджамен Франклин однажды заметил: «Мы называем дикими некоторых людей на том лишь основании, что их занятия не совпадают с нашими». Тебе не приходило в голову, что их древние дедовские обычаи не потому так живучи, что народ темен и невежествен. А оттого что их просто незачем изменять! Как незачем менять внешний вид и назначение ложки и тарелки. Они и в Египте были ложкой и тарелкой, и останутся таковыми еще через тыщу лет! НИКОЛАЙ. Но самый ход истории заставит… АЛЕКС. А что такое история? Карамзин всю жизнь писал «Историю государства Российского». И спорил со мной, когда я ему доказывал, что государство – это не вся Россия. НИКОЛАЙ. Я понимаю, кажется, что есть Империя, а есть Отечество. Понятия сии не совпадают. АЛЕКС. Но это еще не главное! Открылось мне, есть третья Россия – ее я называю Святая Русь. Она еще меньше, чем наше карликовое королевство. В ней носят рясы, говорят на старославянском, ищут истины в пустыни… Этой маленькой Руси мы, цари, подавно не нужны. У них есть своя Царица Небесная! Представь себе, я ее сам видел, даже в ножки ей поклонился. НИКОЛАЙ. Кому? Богородице? Тебе было видение? АЛЕКС. Явление было старцу, а мы оказались случайно свидетелями. Впрочем, не стану тебя пугать. Не то еще подумаешь, что я умом тронулся. НИКОЛАЙ. Я так не думаю и думать не стану, брат мой. После того, как я видел старца, готов поверить чему угодно. АЛЕКС. Тогда поверь, что я не просто ушел из Таганрога безвестным богомольцем, оставив трон. Я ушел к нему. Впрочем, тебе пора. Поэтому я буду краток, хотя хотелось обо всем тебе поведать… Об этом старце я услышал от брата нашего Мишеля, он был здесь прошлым летом проездом, заехал получить благословение. НИКОЛАЙ. А! Помню, он так восторгался… Тогда я в толк не мог взять, но после того, как прочел дневник твоей умершей супруги, то сразу догадался, где тебя искать. АЛЕКС. По дороге из Петербурга в Таганрог я тайно от свиты сделал крюк в арзамасских лесах – и два часа проговорил наедине с Саровским чудотворцем. Покаялся в грехе отцеубийства, поплакался о смерти дочери Софи… И вдруг в ответ услышал, что старец может мне устроить с ней короткое свидание! НИКОЛАЙ. Как! С умершей Нарышкиной? АЛЕКС. Однако цену за него назначил страшную, немыслимую – отречение от имени, от царства. Он предсказал в деталях, как удастся мне обставить мнимую свою смерть. Найдется, дескать, в моей свите офицер, похожий на меня лицом, и по своей неосторожности погибнет от несчастного случая. Я не представлял, кто мог бы это быть… Как тут вдруг вижу в свите прибывшей поздней меня императрицы некого Мацкова, которого я даже в списки отъезжающих в Санкт-Петербурге не включал. Из Таганрога я поехал в Крым, туда мне государыня послала Мацкова гонцом с бумагами. Я снова отослал его от себя, и тут он разбивается – прямо на моих глазах! Представь, мне показалось это нелепое событие жутким и нереальным! А тут и донесение Шервуда подоспело, с доказательствами о тайном обществе, которое ищет меня убить… Как и предсказывал мне старец! НИКОЛАЙ. Он предсказал, что ты умрешь? АЛЕКС. Если не смогу обмануть смерть, разыграв мнимую кончину, то меня должны были убить. Впрочем, ты убедился сам, слова старца трудно воспроизвести нашими словами. Он говорит, казалось бы, по-русски, но речь как будто иностранная. Нельзя перевести… НИКОЛАЙ. Я понимаю. Но все это не укладывается в сознании. И что еще он предсказал? АЛЕКС. Предрек мне жизни в молитвенном затворе без малого лет сорок. Ты представляешь, если бы я отказался? А что, если меня бы не убили? Еще лет сорок царствовать? Как только я узнал, мороз по коже! Нет, государем должен быть молодой и сильный человек, как ты. Что толку правил Иоанн IV Грозный полвека? Ведь собирался он уйти в монахи, оставил трон, сокрылся в Александровскую пустынь. Да на свою беду бояре уговорили его вернуться – и все почти сложили голову… НИКОЛАЙ. А бабка наша Екатерина сколько правила? АЛЕКС. И тоже отошла от правила – на троне нужно оставаться двадцать-тридцать лет, пока есть силы что-то изменить. Мне после взятия Парижа можно было смело уходить – я выполнил свою задачу, освободив Европу от владычества Наполеона и учредив Союз Священный. Что еще? В самой России мне преобразовать что-либо оказалось не под силу. НИКОЛАЙ. Следственной комиссии по делу 14 декабря я приказал составить кратко свод требований, выдвигавшихся восставшими. Получилось очень интересно! АЛЕКС (читает бумагу). Ничего нового. Освободить крестьян. Даровать конституцию. Укротить своеволие чиновников и ввести долженствование закона. Если бы все это было осуществимо! С самого начала царствования я хотел того же самого, однако не нашел поддержки ни в ком. НИКОЛАЙ. Я хотел бы сделать все пункты этой описи планом своего царствования. АЛЕКС. Очень хорошо! Но прежде чем освободить крестьян, подумай, куда они пойдут, свободные и нищие? В стране нет ни промышленности, ни торговли, ни спроса на рабочие руки. НИКОЛАЙ. Я говорил о паровых машинах и железных дорогах. АЛЕКС. Что ж, верно, ты уже сам все обдумал. Что я могу тебе советовать? Живи своим умом. Ищи себе верных помощников во всем. Увы, мне не на кого было опереться. Вокруг меня были одни военные, которые умели только красоваться на парадах и погибать в сражениях. Для мирной рутинной работы они непригодны. Один Сперанский был умен и образован, но и его меня заставили убрать подальше. Он губернаторствовал в Сибири, набрался опыта и может весьма полезен быть… НИКОЛАЙ. Его я попросил составить Свод законов российских, начиная с Полного собрания всех уложений и указов. Хочу издать. АЛЕКС. Да, это будет лучше, чем конституция. Еще бы всех заставить по тем законам жить! Военные, особенно гвардейцы, всегда готовы предать. Для них закона нет, они ведь служат чести и выполняют приказы командира. Окружи себя штатскими чинами. Надеюсь, тебе хватит тридцать лет правления, чтоб выросло в России поколение университетски образованных чиновников. НИКОЛАЙ. Тридцать лет правления? Это тебе тоже старец предсказал? Выходит, ты меня переживешь на десять лет? АЛЕКС. Не стоит, брат, загадывать вперед. Что проку будущее знать? Ведь всем заранее известно, что рано или поздно любого ждет один конец… НИКОЛАЙ. Ты прав, смерть предсказать не трудно. И даже срок, наверное, возможно предугадать. Представь, благословение на царство из уст твоего старца меня гораздо более воодушевило, чем при коронации под руководством митрополита Серафима в Успенском соборе московского Кремля. Там было много злата и была там шапка Мономаха, там били пушки и колокола… А тут хибарка тесная заставлена огарками свечей возле иконки Богородицы. Зато какие ясные голубые глаза! Какая святость и благость! АЛЕКС. Дай Бог, чтоб у тебя не проходило никогда это состояние умиротворения, единства с миром и человечеством. Увы, неумолимая логика обстоятельств часто будет вынуждать тебя действовать и принимать решения, исходя из так называемых «высших государственных соображений». Поверь, я не случайно сделал тебя главой инженерных войск, чтоб ты семь лет томился в приемной графа Аракчеева. Там ты наслушался такого, чего мне в молодости знать не довелось – теперь ты знаешь изнутри, как вертится та государственная машина, как в ней обделываются дела. Старайся не попасть в зависимость той мясорубки политических взаимостолкновений. Будь выше интересов и необходимости, и помни, что цари такие же игрушки в борьбе Добра со Злом. НИКОЛАЙ. Нам пора идти. АЛЕКС. Я провожу вас до монастыря. НИКОЛАЙ. В Москве сказал, что еду в Троице-Сергиеву лавру, потом, может, в Оптину пустынь. А сам рванул сюда. Коронационные торжества закончатся 23-го… Как я от всего устал! АЛЕКС. Тебе рано уставать. Прощай, брат Николай! Спасибо, что приехал. Теперь ты знаешь, что я тебе ничуть не опасен. Никто не узнает обо мне. Мы никогда не встретимся. Отсюда, когда не станет старца, я уйду в Сибирь, буду жить один в тайге. И молиться за весь наш род, да будет так! НИКОЛАЙ. Да, хорошо бы… Знаешь, сейчас я вспомнил, когда шел Наполеон, ты говорил, что хочешь уйти в Сибирь, отрастить бороду и питаться картофелем. Мне тогда было четырнадцать лет. АЛЕКС. Теперь тебе тридцать, полжизни прошло. И еще полжизни впереди. Трудись каждый день, неустанно. И не забывай своего бедного несчастного Александра… Впрочем, теперь меня зовут Федором Кузьмичем. Братья обнимаются, старец выходит на крыльцо келии и осеняет их крестом. Александр машет на прощание Волконскому. Тот кланяется в ответ до земли. Бенкендорф и Соломко отдают честь. Уходят вслед за Николаем. СТАРЕЦ. Какой хороший, славный, молодой наш царь! Благослови его на радость, Царица Небесная! АЛЕКС. На неокрепшие плечи его взвалил я свою непосильную ношу. СТАРЕЦ. Оставь сие на Промысел Всевышнего. Сказано, заботься лишь о духовном бдении. И проходя своим путем внутреннего внимания, не преставай молиться. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь… ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ Санкт-Петербург, 23 ноября 1836 года
Зимний. Вечер. Кабинет. За огромным столом при свечах НИКОЛАЙ разбирает бумаги. Из папки для доклада, что держит в руках, БЕНКЕНДОРФ подкладывает царю на подпись следующий документ. НИКОЛАЙ. Некогда, Александр Христофорович, поздно уже. Только самое существенное – и о делах, не терпящих отлагательств. Давай сюда тезку твоего… БЕНКЕНДОРФ (подает донесение). Извольте, ваше величество. НИКОЛАЙ. Что это? Я же говорил про Пушкина… (Читает). «Задержан под Красноуфимском… Назвался Федором Кузьмичем, беспаспортным, не помнящим родства». БЕНКЕНДОРФ. Я думал, вы про этого Александра, ваше величество… НИКОЛАЙ. Так вот он где объявился. Три года не было вестей. Саровский старец ведь почил в начале тридцать третьего? Он тогда ушел из монастыря… Где же все это время обретался? БЕНКЕНДОРФ. Надзирать за странником, зовующим себя Федором Кузьмичем, вы запретили, государь. НИКОЛАЙ. А то вы сами не следили? БЕНКЕНДОРФ. Мы наказали справляться о нем в придорожных кузнях. Должен же он был где-нибудь остановиться, чтобы подковать коня. НИКОЛАЙ (читает донесение). «Местным судом приговорен к двадцати ударам кнутом и высылкой в Сибирь на вечное поселение»? БЕНКЕНДОРФ. Обычная мера за бродяжничество. НИКОЛАЙ. И что же должен я с этою бумагой делать? БЕНКЕНДОРФ. По предписанию, волостные приговоры по бродягам высылаются на утверждение во вверенное мне Третье отделение Вашего императорского величества канцелярии. Таков порядок. Я не посмел… НИКОЛАЙ. Хитришь, Александр Христофорович. Небось, нарочно приберег, чтобы подать бумагу ко времени. Если я отменю приговор, то сразу вызову в Красноуфимске толки… Что за бродяга такой, участие в коем принимает Санкт-Петербург! С другой стороны, бродяге, может, и тридцать ударов нипочем… БЕНКЕНДОРФ. Бывает, что здорового детину десятью ударами до смерти убивают. НИКОЛАЙ. Ему сейчас, должно быть, лет шестьдесят? БЕНКЕНДОРФ. Пятьдесят девять исполнится в декабре. НИКОЛАЙ. Задали вы мне задачку, Александр Христофорович! А там еще Пушкин ждет… Вот что, дайте мне подумать. А пока зовите первого моего поэта. БЕНКЕНДОРФ. Слушаюсь, ваше величество. (Выходит, возвращается с Пушкиным, представил громко, официально). Камер-юнкер двора Вашего императорского величества Пушкин Александр Сергеев сын просил аудиенции по личному делу. НИКОЛАЙ. Да какое уж личное. Весь Петербург о дуэли говорит. ПУШКИН. Я оскорблен, мой государь! Но не титулом рогоносца и даже не запятнанной честью своей супруги. Пасквилянты дерзнули сделать намек на самого императора… НИКОЛАЙ. И ты решил вступиться за честь государя? Похвально! Жаль, не умел дождаться, когда я сам об этом попрошу. Александр Христофорович, дайте нам пошептаться. Да не уходите, все равно ведь станете подслушивать! Шучу, шучу… Посидите, что ли, в стороне. Вдруг понадобится ваша справка. БЕНКЕНДОРФ. Слушаюсь, ваше величество. Отходит к дверям, но не садится, стоит почтительно. Николай выходит из-за стола. Пушкин подходит нерешительно. НИКОЛАЙ. Помнишь, Александр, наше знакомство в Чудовом монастыре? О чем мы говорили? Какою мечтали видеть Россию? Ты говорил, что вышел бы на Сенатскую площадь, окажись тогда в Петербурге. ПУШКИН. К несчастью, там находились все мои друзья. НИКОЛАЙ. Я не к тому, чтобы дурное помнить. (Подводит его к окну). Просто хотел показать тебе то самое место, откуда я в то утро, десять лет назад, глядел на площадь, где собрались неприсягнувшие мне полки… И я тогда молился за Россию. Исаакий тогда еще был недостроен и не было перед дворцом Александрийского столпа. Так вот, на этом самом месте я молился за заблудших… Впрочем, Пушкин не усерден в вере Христовой? ПУШКИН. Перелагаю иногда псалмы стихами, библейские сюжеты. НИКОЛАЙ (оборачивается к столу, к белеющей на зеленом сукне бумаге). Я мог бы тебе такой сюжетец преподнесть, что-то вроде новой евангельской притчи… Да не время теперь. Вот закончишь «Историю Петра Великого». Иль ты еще не начинал? ПУШКИН. План готов, весьма подробный. Материала довольно. Засесть на год в деревню – и написать. НИКОЛАЙ. Стало быть, дуэль – это предлог сбежать из Петербурга? Иначе не уговорить супругу оставить свет? Ведь при любом исходе дела, останься даже ты в живых – я принужден буду выслать тебя из столицы. ПУШКИН. Я понимаю, государь. Однако мне не оставляют выбора. Я не осмелился бы беспокоить тебя пустяками, прося аудиенции по делу, касающемуся лишь одного меня либо задевающему честь моей супруги. НИКОЛАЙ. Смерти ищешь? Это, кажется, уж третья дуэль за этот год? БЕНКЕНДОРФ. Осмелюсь доложить, четвертая, государь. Александр Сергеевич изволил вызвать Семеновского, Соллогуба, Хлюстина, Репнина по разным пустяковым поводам … Все отказались, ссылаясь на значение Пушкина для России и ее будущной славы. НИКОЛАЙ. Еще бы, первый поэт Отечества! Властитель дум. «История Пугачева» показала, что со временем ты можешь затмить Карамзина. Если не дашь втянуть себя в темную историю. Долго продержал тебя в приемной тезка Александр Христофорович? ПУШКИН. Право, безделица. Его превосходительство всегда относятся ко мне с крайней благосклонностью. НИКОЛАЙ. Александр Христофорович принимает в тебе живейшее участие. Не только в качестве шефа жандармов и моего доверенного лица. Он знает, как обоих вас, тезок, я люблю. Верно ли тебе приписывают в свете авторство каламбура, дескать, в России две беды – дураки и дороги? ПУШКИН. Господи, меня опять хотят выставить в дураках! И кому, ей-богу, я перешел дорогу? НИКОЛАЙ. Экспромт! Сказано изрядно, за то и ценю вашего брата. ПУШКИН. Это не я, государь, сказал. Кажется, это Гоголя острота. НИКОЛАЙ. И Николай Васильич твой хорош. Как в «Ревизоре» он всем всыпал! И мне досталось. Ведь это ты ему сюжетец подарил? ПУШКИН. Я не одному ему рассказывал. Подобное происшествие случилось со мной в Нижегородской губернии. Все местное начальство приняло меня за важное лицо из Петербурга. Ведь в подорожных бумагах моих предписывалось оказывать всемерное содействие. Забавно! Хотел сам черкнуть комедию, да недосуг… А Николай Васильич чудо сотворил! Теперь на Москве ее и Щепкин ставит. НИКОЛАЙ. И где сейчас твой Гоголь? Уехал за границу… Обиделся на весь свет. Разве так делается? ПУШКИН. В Париже, говорят, засел за «Мертвых душ». НИКОЛАЙ. Опять по твоему наущению? Щедр же ты на сюжеты. ПУШКИН. В Кишиневе, пятнадцать лет назад, слышал я анекдотец, как некий пройда скупал у местных помещиков умерших крестьян, значившихся в ревизской сказке, а потом заложил купчие на них, будто живых, в Опекунском совете, чтобы получить изрядную ссуду. Каков?! Я бы никогда за поэму такую не принялся бы, лень-матушка! Гоголю же под силу. НИКОЛАЙ. И опять про нас. Едко, но метко! Ай да Пушкин, тебе бы еще пару-тройку таких гоголей – ты бы потеснил кукольников. Хоть не пристало мне по чину публично одобрять ваших сатир, но ведь и не препятствую же, верно? ПУШКИН. Истинно, государь! Талантам помогать не надо, лишь бы не мешали. Вон Гоголя заклевали, оттого и сбежал… НИКОЛАЙ. А сам отчего просиживаешь ночи за карточной игрой да шампанским? Отчего всех вызываешь на дуэли? Тоже хочешь меня покинуть? Сам видишь, как много дел. Тебе в словесности российской, мне – в государственном устройстве. Я буду вести железные дороги, как бы светская чернь не возмущалась по поводу «стальных коней». Ты – биться за умы, чтобы поменьше оставалось дураков… Но не на дуэли, смотри! ПУШКИН. Дуэли не будет, государь. Мнимый граф фон Геккерен испугался – я заставил Жоржа жениться на сестре моей жены. НИКОЛАЙ. Говорят, что младшая Гончарова дурна собой и матушка в приданое не дает за ней ничего. Тем паче – поделом французскому повесе. ПУШКИН. Катенька влюблена в Дантеса. Она умна, к тому же состоит при дворе. НИКОЛАЙ. Да, кажется, Екатерину Николаевну взяла к себе во фрейлины моя супруга Александра Федоровна. ПУШКИН. Благодарю, государь! Только Геккерен не остановится. Не могу же я тягаться с голландским послом, к тому же другом моего непосредственного начальника графа Нессельроде. НИКОЛАЙ. Министра моего не трогай. Вряд ли Карл Иванович самолично участвует в интриге. ПУШКИН. Тогда Нессельродиха старается, злая бабенка. В ее салоне Геккерен – главная фигура. НИКОЛАЙ. Все они фигуры, коими двигают неведомые шахматисты. Александр Христофорович, продвигается расследование о происхождении анонимок? БЕНКЕНДОРФ. Слух о причастности к их изготовлению молодых Гагарина и Долгорукова не подтвердился. ПУШКИН. Да им и незачем. Тут старый волк Геккерен постарался. БЕНКЕНДОРФ. Бумагой, на которой писались пасквили, действительно, пользуются дипломаты и посланники. Такую поставляют и в Министерство иностранных дел. Но авторство не принадлежит ни Нессельроде, ни его супруге. Я не о почерке. Текст взят из распространенных по Европе дипломов, в частности, ныне они стали модными в Вене. НИКОЛАЙ. Теперь и к нам доставили? Уж не торчат ли тут уши Миттерниха? Может, тайная дипломатия? БЕНКЕНДОРФ. Отрицать нельзя. Впрочем, как и утверждать. Конверт запечатан особым знаком, вряд ли изготовленным для разового употребления. Изображения циркуля, ока в треугольнике – характерные масонские символы. НИКОЛАЙ. Тайные общества руку приложили? Пушкин, кажется, давал подписку, что не будет состоять в означенных организациях? БЕНКЕНДОРФ. Александр Сергеевич по молодости лет имел неосторожность в Кишиневе вступить в ложу «Овидия». Но тот шаг не можно зачесть ему в вину теперь, пятнадцать лет спустя. На следующий год тайные общества в России были запрещены указом августейшего императора Александра Павловича. НИКОЛАЙ. Братец мой тебя не жаловал. ПУШКИН. Видел я трех царей. Папенька ваш, Павел Петрович, рассказывали, велел снять с меня картуз и попенял няне… Я был тогда младенец. Вы заковали в камер-пажи. Однако четвертого не желаю. От добра добра не ищут. НИКОЛАЙ. Правда ли, Пушкин, ты нарочно укатил из Петербурга, когда два года назад мы освящали сей Александрийский столп? (Указывая в окно, но глядя на стол с бумагой). Не можешь забыть Александру ссылки? БЕНКЕНДОРФ. Александр Сергеевич памятник себе воздвиг повыше сего столпа. Я представлял его новые стихи вашему величеству. НИКОЛАЙ. Читал, но хотел бы послушать в исполнении авторском. ПУШКИН. Всего лишь подражание горациевой оде «К Мельпомене», начало коей звучит: «Exegi monumentum». Если угодно, государь, слушай… «Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». НИКОЛАЙ. Едко, зло, но хорошо! А как же «чувства добрые я лирой пробуждал»? ПУШКИН. «И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал». НИКОЛАЙ. Ты падешь! Если не оставишь в покое Геккерена и салон графини Нессельроде. ПУШКИН. Не могу же я оставить без последствий преследований своей супруги, которая не давала к тому никаких поводов. Тем более она только сейчас начала выезжать в свет, окончательно оправившись после четвертых родов. НИКОЛАЙ. Как, кстати, новорожденная? Сколько ей уже? ПУШКИН. Нынче как раз полгода. Наташенька вся в мать. НИКОЛАЙ. Поклон нижайший Наталье Николаевне. Ты знаешь давно, как я ее люблю и уважаю. А то, что с ней вальсировал у Нессельроде на балу, не ревнуй, на то она и фрейлина. ПУШКИН. Тем более, не могу оставить без ответа грязных намеков тех анонимов, кои намеревались выставить нас соперниками. Государь, меня просто травят, хотят столкнуть нас лбами. Вряд ли мой выдержит… НИКОЛАЙ. Ты все понимаешь, и все же идешь на поводу у интриганов. Неужто не видишь, что целят в вас с Натальей Николаевной, а на самом деле метят в меня? ПУШКИН. Но законы высшего света не оставляют мне выбора! Дуэль меня погубит, но ничего другого, как только вызвать обидчика, тут сделать невозможно. БЕНКЕНДОРФ. Выбор всегда есть. Я предлагал господину Пушкину помощь со стороны моего ведомства. ПУШКИН. Стать агентом Третьего отделения? НИКОЛАЙ. Об этом речи не идет. (читает). «Зачислить Александра Пушкина почетным диктором Ордена рогоносцев»! Какая мерзость… В конце концов, я устал за Пушкина вступаться! А еще хотел его пожаловать в камергеры… Впрочем, в последнее время, кажется, его больше занимало звание предводителя словесности Российской? Что «Современник»? ПУШКИН. Журнал идет плохо. Устал я. Стихов почти не пишу. НИКОЛАЙ. Твое призвание – история! После «Годунова» с «Пугачевым» могу предположить, какова будет направленность «Истории Петра Великого». Потому и враги наши общие торопятся помешать. Это ясно… Как не хватает умных людей, которые могли бы стать помощниками в преобразовании России! А тут еще Пушкин жаждет крови, ищет погубить себя. Вот как это выглядит на поверхности, хотя в глубине спрятаны причины гораздо серьезнейшие. Ведь ты не пощадишь моего прапрадеда? ПУШКИН. Историю люблю такой, какая есть. Не дело историка раскрашивать ее по своему усмотрению или по требованию сильных мира. НИКОЛАЙ. Верно, потому «Пугачева» я разрешил печатать, несмотря на сопротивление (глядит на Бенкендорфа многозначительно) со всех сторон. И о Петре Первом жду от тебя неприкрытой правды. Надо работать, как бы тяжело нам не жилось. Как бы нас ни травили… Быть первым в государстве или первым в литературе – одинаково тяжко. ПУШКИН. Одинаково одиноко. НИКОЛАЙ. Вот и рифма готова! (Смеется). Люблю поэтому поговорить с поэтами. Как ты писал? Давно, усталый раб, задумал я побег? (Смотрит на бумагу, оставленную на столе). В пустыне… Как там дальше? ПУШКИН. Изволь… «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля – Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальную трудов и чистых нег». НИКОЛАЙ. Вот-вот! В обитель… (Указывая на бумагу). Знал бы ты, какие порой грандиозные сюжеты попадаются на моем столе! Возможно, после Петра Великого, ты и о нем напишешь! ПУШКИН. Что за сюжет? А то свои я Гоголю раздал. НИКОЛАЙ. Не настала еще пора… Как там дальше у тебя? ПУШКИН. «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит – Летят за днями дни, и каждый день уносит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем Предполагаем жить, и глядь – как раз – умрем». НИКОЛАЙ. Опять умрем! Что за масонские мотивы? БЕНКЕНДОРФ. У вас всегда, чуть что, сразу масоны! А вы знаете, к чему они призывают? К всеобщему счастью и гармонии. Франкмасонов сделали эдаким пугалом Европы. Наполеон, между прочим, не был масоном! А император Александр, его сокрушивший, к масонам относился с симпатией, хотя сам не состоял. ПУШКИН. Масоны – за нравственное самосовершенствование, образование, гуманистические ценности. Но до других-то им что за дело? БЕНКЕНДОРФ. На них решили отыгрываться, они козлы отпущения. НИКОЛАЙ. Вы масон? БЕНКЕНДОРФ (твердо). Нет. НИКОЛАЙ. Ясно. А по мне это даже лучше. (Пушкину). Не время умирать! И больше никаких дуэлей, обещаешь? Иди, мне надо в самом деле многое закончить. ПУШКИН. Предан вам, государь! Благодарю за честь… НИКОЛАЙ. Кланяйся обеим Натальям и всем домашним. Не забывай! ПУШКИН. Не забуду! БЕНКЕНДОРФ. Сюда, Александр Сергеевич. (Открывает дверь, сам остается). Ваше величество, какие будут еще распоряжения? НИКОЛАЙ. Не уходи. Я все решил. Александр не может умереть. Но мы не можем отменить красноуфимского приговора. Пусть будет все, как будет? Он может умереть. И Пушкин вряд ли меня послушает. А мы не можем указать открыто Геккерену, этой старой лисе… Что же делать? БЕНКЕНДОРФ. Уповать на волю Всевышнего. НИКОЛАЙ. Странная моя судьба! Мне говорят, что я – один из самых могущественных государей в мире, и надо бы сказать, что все, что позволительно, должно бы быть для меня возможным, что я, стало быть, мог бы по усмотрению быть там, где хочется, и делать то, что мне хочется. На деле, однако, именно для меня справедливо обратное. Буря за окном крепчает. Огни свечей на столе дрожат, погружая пространство в дрожащие блики. Из Красноуфимска в Петербург, как ни в чем не бывало, входит кат с кнутом через плечо. ПУШКИН. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет…» НИКОЛАЙ. Двадцать ударов. А ведь это смерть…
КАТ. Нешто мы не понимаем? Иного я и сам рад зашибить до смерти, таких супостатов видывал! Кнут, он, ить, в руке послушен. Может с трех ударов содрать мясо с костей. А могу и так сделать, что свисту много будет, а человек почувствует разве лишь то, как будто его женка гладит по спине… Из Таганрога в Петербург приходит Алекс, снимает белую рубаху, оставшись бел и гол. АЛЕКС. Что ж, перед смертью я, как и в рождении, остался наг… И рад! Кнута не вынесу, да оно, может, и лучше… Не жалей меня, человек, начинай. Ложится на зеленое сукно огромного стола – и свечи дрожат неровным светом у его изголовья, как в Таганроге возле его смертного ложа. НИКОЛАЙ. А если меня спросят о причине этой аномалии, есть только один ответ: долг! Да, это не пустое слово для того, кто с юности приучен понимать его так, как я. Это слово имеет священный смысл, перед которым отступает всякое личное побуждение, все должно умолкнуть перед этим одним чувством и уступать ему, пока не исчезнешь в могиле. Таков мой лозунг! Из пустыни осени выходит старец, медленно несет в гору деревянное ведерко с родниковой водой СТАРЕЦ. Всякий, кто проходит по пути внутреннего внимания, должен слушать себя, и не должен внимать посторонним слухам, от которых голова может быть наполнена праздными и суетными помыслами и воспоминаниями. НИКОЛАЙ. Помню, Александр говорил о том видении, когда в пустыни старца к нему пришла умершая дочь Софи… Александр Христофорович, вы считаете, такое возможно в реальной жизни? БЕНКЕНДОРФ. Все возможно, ваше величество.
Открывается дверь, за которой во тьме скрылся Пушкин. Теперь оттуда хлынул непереносимый свет. В его весенних лучах является Софи.
АЛЕКС. Доченька! Тебя ль я вижу… Верно, старец обещал, что мы увидимся еще при жизни. Ты улыбаешься? ДОЧЬ Моя улыбка будет светить тебе оттуда, где мне так хорошо. АЛЕКС (поднимается в слезах). Я никогда не слышал, чтобы ты говорила по-русски. ДОЧЬ. Я всегда буду с тобой говорить, мой отец. Я тебя так люблю! СТАРЕЦ (поливает его водой). Христос воскресе, радость моя! АЛЕКС. Отныне мне ничего не страшно! Начинай, любезный, я готов. КАТ. А все уже кончилось, мил человек! Разве ж ты ничего не почувствовал? Двадцать ударов как одна копеечка. С тебя бы на полуштоф… АЛЕКС. У меня нет ничего, извини… Даже карманов нет, не то что в них должно водиться. ДОЧЬ (надевает на него белую рубаху). Мы обязательно еще увидимся. БЕНКЕНДОРФ (дает кату денег). Выпей за его здоровье, служивый. КАТ. Благодарствую, ваше превосходительство, мы не в обиде. Знамо, по этапу человек в Сибирь идет. Откуда у него копеечка. НИКОЛАЙ. Пусть будет все, как будет. АЛЕКС. Так Богу было угодно. СТАРЕЦ. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь! Свист метели. Свет свечей. З а н а в е с ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ «…официальная версия о смерти в Таганроге императора Александра крепко вошла в общественное сознание. Немногие посвященные свято хранили тайну: каждый понимал, что приоткрыть хоть крайний уголок ее – значит закончить жизнь в казематах Шлиссельбурга либо в других, еще более скорбных местах. У всех было еще свежо в памяти 14 декабря, и малейший слух, способный посеять сомнение в правах императора Николая на престол, был бы истреблен в самом зародыше. Императрица Елизавета умерла. Новый государь наложил руку на ее письма и дневники, прочитал их в полном уединении и собственноручно сжег в камине. Но прошло немного времени, и в Саровскую обитель, отстоявшую от Петербурга на 1200 верст, внезапно пожаловал он, государь император… После торжественной службы и не менее торжественной трапезы государь удалился в келью настоятеля. И там в продолжение двух или трех часов длилась беседа троих: Серафима Саровского, Николая I и того, кто теперь трудился в Сарове под смиренным именем послушника Федора. Что почувствовал Николай, увидев своего предшественника на престоле, родного брата, здесь, в глуши, нарушаемой лишь колокольными звонами, в простой черной рясе? Сколь ни был он упоен всегда собственным величием, но в первую минуту встречи смешанное чувство трепета, ужаса, скорби, преклонения, странной надежды и странной зависти не могло не пройти волной по его душе. В духовные трагедии такого рода, как трагедия его брата, он не верил никогда, все подобное казалось ему или блажью, или комедией. Теперь – может быть, всего на несколько часов или даже минут – он понял, что это не игра и не безумие; и смутная радость о том, что за него и за весь царский род предстательствует этот непонятный ему искатель Бога, в нем шевельнулась». Даниил Андреев. «Роза Мира». «Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе… Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние двадцать четыре года. Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, un heureux hazard, как я сказал это madame Staёl. Я считал себя таким, но Бог не совсем оставил меня, и недремлющий голос совести не переставая грыз меня… И все делалось, как бы нарочно, для того, чтобы мое намерение удалось. 9-го я заболел лихорадкой. Я проболел около недели, во время которой я все больше и больше укреплялся в своем намерении и обдумывал его. 16-го я встал и чувствовал себя здоровым. В этот день я, по обыкновению, сел бриться и, задумавшись, сильно обрезался около подбородка. Пошло много крови, мне сделалось дурно, и я упал. Прибежали, подняли меня. Я тотчас же понял, что это может мне пригодиться для исполнения моего намерения, и хотя чувствовал себя хорошо, притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать священника… … исполнение моего намерения оказалось гораздо более легким, чем я ожидал. Намерение мое было такое: притвориться больным, умирающим и, подговорив и подкупив доктора, положить на мое место умирающего… самому же уйти, бежать, скрыв от всех свое имя». Лев Толстой. «Посмертные записки старца Федора Кузьмича…»
|
|
Часть первая. Четыре пьесы об одном Часть вторая. Трилогия «не о КамАЗе» Часть третья. Две исторические хроники Часть четвертая. Один политический фарс
От «я»…
Диас Валеев сыграл в моей жизни значительную, определяющую роль. Поэтому, задумав исторический обзор валеевской драматургии, я менее всего рассчитывал писать сухую монографию или театроведческое исследование. Пусть упрекнут меня в субъективности оценок, в излишней эмоциональности, готов заранее уведомить критиков – все это именно входит в планы автора повествования. На собственную точку зрения в рассказе о жизни и творчестве моего учителя, думаю, имею право я еще и потому, что описываемые события протекали пусть не при моем участии (мы были тогда еще молоды), но на наших глазах. Мне довелось играть в спектакле, поставленном по пьесе Диаса Валеева. И даже написать для исторической хроники «1887» в Казанском тюзе пару музыкальных номеров. Мне и самому неловко много «якать» («вякать»), но жизнеописани-я по-другому не пишутся. Пора расцвета и заката драматургического творчества Диаса Валеева совпала с годами нашего литературного взросления. А потому я не могу относиться к тому времени свободно, холодно и объективно. Признаюсь прямо, тогда я увлекался драматургией Александра Вампилова, а потому относился к пьесам Диаса Валеева довольно скептически. Слишком непохожими были они – иркутский и казанский драматурги, имена которых вдруг зазвучали в замкнутом театральном пространстве тех лет. Страна этих имен почти не слышала. Слишком много шума тогда производили «стройки века» (КамАЗ и БАМ). Эхом отзывались и масштабные театральные премьеры Афанасия Салынского, Александра Гельмана, Михаила Шатрова, иных авторов, чьих фамилий теперь и не вспомнишь, не заглянув в соответствующий параграф учебника театральной истории… Конечно, были Виктор Розов, у которого мне посчастливилось учиться в Литинституте, и Александр Володин, тогда уже писавший больше для кино. Их при жизни называли классиками: розовские "Вечно живые" в московском театре "Современник" и володинские "Пять вечеров" в Ленинградском БДТ считались лучшими спектаклями 50-х годов. Нам, студентам Казанского театрального училища, довелось играть в отрывках их пьес на экзаменах по мастерству актера, и верилось с трудом, что Розов и Володин – не небожители, а такие же люди, живущие рядом с нами. К тому же они были в Москве и Питере – это от Казани очень далеко. А тут живая знаменитость приходит вдруг в театр и читает на труппе свою новую пьесу «Год 1887-й, или Божество у всех одно – свобода!». Тогда, в 1980-м, я уже пописывал в стол и мечтал о Москве, поэтому нашел повод (долго собирался) познакомиться с Диасом Валеевым лично. Через несколько дней, на репетиции в театре, Диас Назихович обратился ко мне с просьбой: на телевидение нужны двое молодых актеров – для участия в передаче о «Литературной мастерской» при газете «Комсомолец Татарии». Кто же из актеров откажется от возможности подзаработать? Я позвал с собой соседа по квартире Александра Фриновского – самого популярного тогда актера тюза. При следующей нашей с Валеевым встрече на Казанской студии телевидения я признался, что пробую писать пьесы. Нельзя ли и мне ходить к нему в «Литмастерскую»? Диас Назихович ответил: – Конечно, приходите! Правда, у нас пока ни одного драматурга нет, только прозаики и поэты. Но это даже хорошо, будете первым. Тогда телепередачи записывали без остановки, с одной репетиции (она называлась "трактом"). Интервью ведущей Лии Загидуллиной с руководителем «Литературной мастерской» Диасом Валеевым и его учениками перемежалось вставными номерами в нашем с Фриней исполнении. Мы прочли стихи и рассказы начинающих авторов без запинки, с чувством-толком, авторам понравилось. Помимо гонорара я заполучил домашний телефон мэтра. Кстати, знакомство с самой популярной в Казани телеведущей в будущем тоже пригодилось: в молодежной редакции у Лии Загидуллиной я позже (когда уже учился в литинституте) проходил производственную практику, а в конце 90-х, в ее студии "Диктор-ТВ" по моим сценариям снимали первый в республике игровой телесериал "Житейские истории". Но вернемся в год восьмидесятый. В сентябре я принес в «Литмастерскую» Диаса Валеева свою еще недописанную пьесу "Чайка в "Чайке". О том, как в нашем народном театре ДК "Чайка" в Самаре ставили чеховскую "Чайку". Сюжет: игравший Треплева герой отказался выйти на сцену с трупом настоящей чайки, только что убитой для премьеры. Пушкинская тема «гений и злодейство – две вещи несовместные» мне тогда казалась очень современной и своевременной. Валеев в пух и прах раскритиковал мой опус, к которому я так и не смог до сих пор вернуться, чтобы дописать финал. Но сохранил черновую тетрадь с критическими пометками Диаса Валеева на полях… Как ни странно, неудача меня только окрылила. Тем более, нашлись среди участников «Литмастерской» и благодарные слушатели (в частности, зеленодольский врач Олег Демидов, увы, безвременно ушедший), отдельные сцены показались им достаточно живыми. А известный ныне исторический писатель Леонид Девятых стал моим лучшим другом. Одним словом, в мастерской меня признали своим, что уже было победой – девять из десяти новичков переставали там появляться после первого прилюдного разгрома. Занятия «Литмастерской» проходили по средам (два раза в месяц) в кабинете главного редактора газеты «Комсомолец Татарии», протекали бурно и побуждали к сочинительству. Кстати, судьба и здесь все пометила в моей жизни: через десять лет я приду на работу в ту редакцию, где пройду все газетные ступеньки – от корректора до ответственного секретаря. Следующая моя пьеса Валееву понравилась больше, однако, по его мнению, одноактовку «Папа» следовало развить в полноформатную пьесу. Я принялся сочинять продолжение. Действие в каждом из эпизодов происходило вечером, оттого и название позаимствовалось у Александра Володина. Переделанную пьесу я читал на «Литмастерской» в начале 1981 года, о чем в газете «Комсомолец Татарии» (от 6 февраля) появилась небольшая заметочка – я ее сохранил, как первое упоминание о себе в качестве литератора. С учетом новых замечаний и предложений Диаса Валеева я дописал новый, фантастический финал – так с третьей попытки из-под моего пера (и с валеевской легкой руки) вышла драматическая фантазия «Четыре вечера и одно утро». Валеев пригласил меня к себе домой, где за чаем состоялся знаменательный разговор. Диас Назихович посоветовал мне поступать в Литературный институт, на творческий семинар драматургии, который вел Виктор Сергеевич Розов. – Что вам делать в тюзе? Всю жизнь зайчиком скакать? – говорил он. – Пять лет учебы в Москве, непосредственное общение с классиком – все это сделает вас драматургом. И я решился. Творческий конкурс прошел, экзамены сдал и поступил. Диас Валеев написал письмо руководству института, мне его потом давали почитать. Возможно, к мнению известного драматурга и прислушались бы, но никакие рекомендательные письма на зачисление влиять не могли. Все решал вердикт Мастера. Как объяснили мне старшекурсники (конкретно, Александр Сеплярский и Мария Арбатова), мою пьесу прочел сам Розов – и она ему понравилась. Его авторитет на кафедре творчества был непререкаем. Все пять лет, пока учился в Москве, я продолжал поддерживать связи с друзьями по «Литмастерской» и ее руководителем. Диас Валеев пришел и на премьеру «Четырех вечеров» в Казанском тюзе (5 марта 1987 года), тепло отозвался о спектакле. А в заключение напутствовал: – Начало хорошее, поздравляю. Но теперь все решит вторая вещь. Настоящий писатель складывается после сорока лет. Чтобы набраться впечатлений и жизненного материала, полезно поработать журналистом – эта профессия позволит много ездить, общаться с разными людьми, быть в гуще событий. Один раз я уже поменял свою жизнь по совету Диаса Валеева. Решил и в этот раз прислушаться – через год ушел из театра в журналистику. И не пожалел (до сих пор не жалею). За что опять же благодарен Учителю. Прошло двадцать лет. Мы попали в другую страну, в другое время, которое забыло известного драматурга Диаса Валеева. Его яркое восхождение на подмостки СССР и глухое забвение его пьес в новой России стало сюжетом истории, которую я хочу написать.
Четыре пьесы об одном
«Сквозь поражение» «Охота к умножению» «Пророк и черт» «Вернувшиеся»
Свою первую пьесу Диас Валеев написал на спор за две недели. Был в гостях у режиссера Семена Ярмолинца и его жены – актрисы Марины Кобчиковой. Как всегда, ругал современный театр. А потом попался на простое «слабо». Дескать, ругать легко, ты сам возьми да напиши. Ну и напишу! Получилась пьеса «Сквозь поражение», которая первоначально носила название «Мысли первые и вторые, или Вверх по лестнице», потом стала называться «Перед последней чертой», а позже была поставлена на татарском языке – «Yзенэ хыянэт итсэн» («Если предашь самого себя»). Случилось это в 1969 году. Герою нашему перевалило за тридцать – и в жизни его в тот год произошло много важных событий. Но для начала выделим главное из них – родился драматург.
I.1
Легкость и быстрота в написании первой пьесы объясняется не столько тем, что писалась она на спор, сколько «вторичностью» по отношению к валеевской прозе. Не надо было долго вынашивать замысел, выдумывать героев. Зачином своей первой драмы прозаик Диас Валеев избрал рассказ «Вокруг земного шара», уже опубликованный в газете «Комсомолец Татарии», где он тогда работал журналистом. К начальной сцене присоединились отрывки нигде пока не напечатанной повести «Жизнь и смерть Лукмана Хамматова» (позднее она увидит свет под названием «Красный конь» в сборнике «Сад»). И еще три рассказа, отклоненных разными журналами, можно считать первоисточниками пьесы: «Осенью, когда на земле листья…» (в первом варианте рассказа Лукман сначала убивает вора и бросает его в болото, в другой редакции сам умирает. Мариэтта Чудакова во внутренней рецензии на рассказ сравнивает тяжеловесную манеру автора со стилистикой Андрея Платонова), «По пути домой» и «Вот придет и обоймет…». Во втором рассказе угадывается образ главного героя пьесы Салиха, а в третьем перед нами предстает прототип его брата – Мансур в пьесе «Сквозь поражение» тоже журналист и циник. В последнюю неделю перед пуском громадного химфармзавода принято решение о снятии с работы директора Лукмана Самматова. Стар, дескать, стал, не обеспечивает руководства. В тот же день его приемный сын Салих отмечает сразу два события – двадцатипятилетие и защиту диссертации. Самматов-старший выпроваживает из дома шумную компанию, Салих высказывает приемному отцу все, что думает о нем и его поколении: «Прошу прощения за то, что нарушил мертвую тишину этого дома! Что же касается твоих затрат на мое воспитание – материальных, моральных… Постараюсь возместить! Кандидатскую я защитил. Даже с процентами постараюсь. С а м м а т о в (потирая рукой грудь). С процентами, говоришь? С какими? Я строил на пустырях заводы. Тысячам, десяткам тысяч людей, бывших под рукой, я давал работу, давал смысл жизни – делать на земле дело. А ты? На машине марку «Жигулей» заменил на марку «Фиата». Это твои проценты? С а л и х. Что ж, за сегодняшний день рождения – спасибо. За все спасибо! Ухожу я из твоего дома. Не хочу! С а м м а т о в. Напрасно. С а л и х. Ты не боишься смерти? Помрешь, кто тебя хоть одним словом вспомнит? Добра никому даже на копейку не сделал!» После этого домашнего скандала Самматов должен вернуться на стройку, где ночью случился очередной прорыв… Но падает возле подъезда, не дойдя до машины. Сердечный приступ. Заметим, приемный сын Салих тому во многом поспобоствовал. Текстовые совпадения в рассказах, повести и пьесе порой настолько буквальны, что впору было бы говорить о «самоинсценировке», если бы не существенные жанровые различия, точнее даже, родовые отличия «эпоса» и «драмы», которые начинающий драматург (и уже вполне сложившийся писатель) преодолел далеко не с первой попытки. В первоначальной редакции «Мысли первые и вторые, или Вверх по лестнице» еще присутствовал персонаж «От автора». Видимо, Валееву еще хотелось высказаться за персонажей самому, чего в драме делать не принято. Первым читателем пьесы, как и всех его произведений, стала жена Дина Каримовна, которая мужа горячо поддержала. Ярмолинец с Кобчиковой первый драматургический опыт друга тоже одобрили, хотя критиковали в частностях. Новую редакцию автор дал Аязу Гилязову – известному писателю, прозаику и драматургу, пьесы которого уже шли в Татарском академическом театре имени Г. Камала. Тот похвалил Валеева на словах, что для начинающего драматурга уже подарок, и поддержал на деле: отнес пьесу молодого автора главному режиссеру камаловцев. Обещал сделать литературный перевод на татарский язык, если пьесу примут в репертуар. Марсель Салимжанов прочитал «Сквозь поражение» и подтвердил, что будет ее ставить. Для Диаса Валеева это было началом нового, драматургического этапа в жизни и творчестве, тем более, что предыдущий – прозаический – закончился весьма драматично.
I.2
К тому времени Валеев уже пятнадцать лет сочинял. Опубликовал ряд рассказов не только в местных газетах, но и в столичных журналах «Молодая гвардия», «Смена», «Сельская молодежь». Публикаций хватало, однако они оставляли внутреннее ощущение случайности, эпизодичности, отдельности. Бесконечные отказы из казанских и московских издательств составили целый том «документального романа», переплетенного позднее на память. Хотелось настоящей известности. Пока же его как писателя знали лишь несколько таких же, как он, молодых сочинителей, собиравшихся в литобъединении при Доме печати. Как вспоминает о том времени один из литобъединенцев, писателем не ставший, зато ныне – член-корреспондент Академии наук Татарстана, доктор философских наук Булат Галеев: «На стыке 50-60 годов бурлило, гудело в Казани молодежное литературное объединение при Союзе писателей республики и редакции газеты «Комсомолец Татарии». По молодости лет ходил туда и я. Там встретился с Диасом Валеевым. Интересные, радостные были времена: недавно прошел ХХ съезд, и нам всего по 20… Ждали каждого четверга трепетно, как праздника. Читали, спорили, критиковали друг друга, не щадя живота – своего и чужого. Приходили иногда художники, музыканты – К. Васильев, А. Аникиенок, Л. Блинов. Многие из тех, кто засиживался тогда допоздна на верхней лестничной площадке Дома печати, прокуренной и полутемной, теперь, – «классики». По крайней мере, известны у нас в республике, а то и в стране: Рустем Кутуй, Роман Солнцев (тогда еще Ренат Суфеев), Мария Аввакумова. Помнится – среди наших «яблок на ладони», «солнца на рельсах» и прочих поэтических кружев Диас Валеев выбивался, раздражал своим прямо-таки неистовым косноязычием. Мы называли его рассказы «черными», уж больно безрадостно было в них все, не ко времени (а за окнами – «Синий троллейбус» Окуджавы, «Политехнический» Вознесенского!). Все у него было слишком серьезно – никаких вам метафор. Ссылался Диас Валеев на неведомых нам Замятина, Пильняка. Это тоже раздражало – он знает, а мы нет… Так уж получилось, распалось наше литобъединение как раз под редкую капель леденеющей оттепели. А может, просто разбросало всех нас после студенческих лет. Выпускник геологического факультета КГУ Диас Валеев уехал в Сибирь. Бог знает, чем он там занимался, но, вернувшись, стал работать в «Комсомольце Татарии». С литературой, судя по всему, дела шли туго, бродили слухи – перепадало ему изрядно, авансом, даже без публикаций. Продолжал раздражать, вероятно, кого-то повыше нас…» Вместо признания Диас Валеев получил… приглашение явиться на «Черное озеро». Так в царские времена назывался знаменитый в Казани парк недалеко от Кремля, известный цирком-шапито и зимним городским катком. Неподалеку располагалось здание жандармского отделения. В советские годы там разместилось ВЧК, позднее переименованное в НКВД. С тех пор «Черное озеро» обрело для казанцев тот же страшный смысл, какой в Москве получила старая добрая Лубянка. Тот же зловещий оттенок придали словосочетанию «черный воронок» (машина, увозившая по ночам арестованных за «дело», а чаще безвинных в застенки НКВД – откуда чаще всего не возвращались). В Комитет государственной безопасности, что по-прежнему располагался на улице Дзержинского, у парка Черное озеро, Диаса Валеева пригласили по телефону, без повестки. Просто позвонили в редакцию, назначили время. И беседовали два полных дня. Это называлось профилактическими беседами. Допрос начался с анализа рассказа «Груша». О том, как мальчик любил девочку… Гэбисты допытывались, почему героиня живет в старом доме, а не в новенькой пятиэтажке (Дания Каримовна выросла в доме №23/15 по улице Фатыха Карима, где я бывал однажды в гостях и действительно видел в саду совсем уже старую грушу). Следователи, их было трое, четвертый вел стенограмму беседы, намекали на сознательное очернение советской действительности. Вывод шили неутешительный: товарищ Валеев – диссидент, антисоветчик. Таких у нас учат уму-разуму в психушках, говорили ему. А можно и в тюрьму посадить, повод найти легко. Однако ограничились лишь взятой с автора объяснительной запиской. В первом томе переплетенного позже собрания документов тех лет можно обнаружить любопытный рукописный черновик, датированный четвертым февраля 1969 года: «Я, Валеев Диас Назихович, в конце января, начале февраля был приглашен в Казани в Комитет Государственной Безопасности по вопросам, связанным с моим литературным творчеством. В двух беседах с сотрудниками Комитета госбезопасности, в ходе длительного разговора мне был предъявлен ряд претензий, а именно, что мои рассказы в общей своей оценке носят ущербный характер. В связи с этим должен заявить следующее. Я, Валеев Диас, всегда считал и считаю себя сейчас советским человеком, полностью поддерживающим платформу партии и нашего государства. Думал и думаю, что буду писателем, чье творчество принесет определенную пользу и будет нужно советскому народу. Свои рассказы я предлагал для рассмотрения и обсуждения лишь официальным творческим организациям советских писателей, а именно на рассмотрение русской секции Союза писателей Татарии и ряда журналов. В никаких иных формах распространения мои рассказы не участвовали. Я не пропагандировал их ни частным порядком, ни выступая с ними публично. Состоявшиеся беседы были для меня неожиданными и заставили о многом задуматься. Считаю, что беседы эти были полезными и нужными. Дело в том, что намечавшийся уже внутренний поворот от тематики рассказов такого рода, как, допустим, рассказ «Страх», а именно поворот к другим героям, к другим пластам жизни, еще более укрепился во мне <…> Разговор был полезен для меня еще и в том смысле, что точно и ясно, как говорится на собственной шкуре, показал мне ту в общем-то неновую и теоретически знакомую ранее мысль, что субъективные намерения и желания автора, руководствующегося подчас чисто художественными задачами, приобретают порой совсем иную окраску, чем того хотел автор, что, разумеется, не снимает с него ответственности <…> Эту меру ответственности диктуют как политические обстоятельства дня, так и путь, которым идет наша страна вот уже полвека. И потому, понимая и принимая это, я и считаю состоявшийся разговор нужным. Сам же тон разговора, в котором я чувствовал обеспокоенность за мою судьбу, я воспринимаю как доверие ко мне, молодому прозаику. Думаю и считаю, что доверие это оправдаю, учтя высказанные мне критические замечания как в моей дальнейшей литературной работе, так и применительно к уже написанным произведениям. Думаю и считаю, что вся моя дальнейшая жизнь будет, как и положено ей быть, жизнью советского человека и советского писателя (дата, подпись)». Вряд ли данная объяснительная записка служит доказательством, что Валеев раскаялся или испугался. «Эту меру ответственности диктуют как политические обстоятельства дня, так и путь, которым идет наша страна вот уже полвека» – знаменательная фраза в ней. Позднее в документальном театральном романе «Чужой, или В очереди на Голгофу» он подробно опишет те допросы, на которых его пытались раздавить, а он старался не подать вида, что испугался, хотя пот порой тек по спине ручьями. Особенно эмоциональны возникающие в воображении автора картины, как по этим запутанным коридорам четверть века назад вот так же водили на допросы его отца, бывшего секретаря сельского райкома партии… Герой нашего повествования имел основания опасаться. И если не за свою жизнь, как его отец, то за свою писательскую судьбу. В первый же вечер Диас Валеев собрал все свои рукописи, все написанное за пятнадцать лет, оставив лишь наброски, не представлявшие для КГБ особого интереса. Мешок отнес в дровяной сарай, что стоял во дворе дома его матери на улице Нариманова. А геологический рюкзак на рассвете отвез на дачу в Карьере (за Компрессорным заводом) и спрятал в подполе. Как вспоминал Валеев, «под колпаком» госбезопасности он оказался еще в те времена, когда работал геологом в Горной Шории (Кемеровская область, 1962-1965), в поисково-съемной экспедиции поселка Одра-Баш. Там он дважды отказался участвовать в выборах – в Верховный Совет СССР и местные советы народных депутатов. Этого было достаточно, чтобы местные гэбэшники взяли молодого специалиста на заметку, а материалы, собранные осведомителями, по возвращении Валеева в Казань переправили в КГБ Татарской АССР. Только непонятно, как с такими сопроводительными бумагами его взяли на работу журналистом не куда-нибудь, а в идеологический рупор обкома ВЛКСМ – газету «Комсомолец Татарии»? Или решили, что там за ним будет проще доглядывать? Во всяком случае, в ходе бесед на «Черном озере» допрашиваемый постоянно напоминал, что его статьи в газете должны быть хорошо известны сотрудникам идеологического отдела КГБ, в них он не скрывал своих политических взглядов. Но начальник отдела полковник В. Морозов, его сотрудники подполковник К. Гатауллин и майор Н. Кожахметов о работе Валеева в газете ничего не говорят, лишь достают из досье машинописные рукописи его неопубликованных рассказов. И на их примере пытаются доказать автору, что тот сознательно очерняет советскую действительность, поселяя героиню своего полуторастраничного рассказа в старый разваливающийся дом. Ныне это можно воспринять как театр абсурда. Тогда же Диасу Валееву было не до шуток. Даже теперь, спустя почти сорок лет, он все пытается понять, чем был вызван тот вызов на «Черное озеро»? Зачем с ним вели «профилактические беседы», зачем стращали, брали подписку? Вспомним фразу из его записки: «Эту меру ответственности диктуют как политические обстоятельства дня, так и путь, которым идет наша страна вот уже полвека». Что же это за политические обстоятельства? Сегодня можно лишь предполагать, впрочем, с достаточной долей уверенности, что подобная мера к начинающему писателю, который опубликовал лишь три коротеньких произведения, была вызвана причинами внешними и внутренними. Причины те были настолько значительны, что о них не писали в газетах, не говорили по единственному тогда телеканалу. Вероятно, местным контрразведчикам поступила из центра директива – найти и обезвредить возможных «подписантов», готовых выступить против режима. Наверняка на профилактические беседы вызывали в те дни не одного Валеева. Думается, в вызове на «Черное озеро» прежде всего виноватой стала «чехословацкая весна». Напомним, в августе 1968 года лидера ЧССР Александра Добчека вывезли в СССР, а в мятежную Прагу ввели советские танки. На Красную площадь в Москве вышли с плакатами первые диссиденты, академик Сахаров подписался под первым своим письмом «против советской власти». В начале 1969 года по Чехословакии прокатилась волна самосожжений, которые в свою очередь вызвали волну погромов – пострадали представительства советских Аэрофлота и Интуриста. С другой стороны, назревал советско-китайский пограничный конфликт: на маленьком амурском острове Даманский в марте 1969 года погибли свыше 50 советских солдат, пока командиры ждали из Москвы приказ на ответный огонь… Такие сотрясения в «едином социалистическом лагере» не могли не вызывать обеспокоенность Политбюро ЦК КПСС – высшего по сути органа власти. Но главным поводом к усилению бдительности органов я все же считаю сверх-ЧП во внутриполитической жизни. Журналист Диас Валеев тогда об этом слышать ничего не мог, потому что о нем не сообщали в газетах: 22 января 1969 года в Москве (вызов на «Черное озеро» в Казани состоится ровно через неделю!) на спуске с Большого Каменного моста к Боровицким воротам Кремля младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин совершил покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Покушение неудачное, но весьма напугавшее кремлевских старцев. В тот день Москва встречала космонавтов-героев, впервые в истории человечества осуществивших на орбите стыковку двух космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Встречавших оказалось слишком много, поэтому Брежнев ехал не во второй, как по негласному протоколу было принято, а в третьей машине кортежа. Ильин этого не знал. Прежде чем его скрутили, он с двух рук расстрелял обоймы украденных в своей части пистолетов «Макаров». Убил шофера, ранил мотоциклиста. Осколками стекол порезало Берегового, рикошетом одна пуля зацепила Николаева. Его жена Терешкова и Леонов остались невредимы. После молниеносно проведенного следствия на Лубянке, Ильина признали душевнобольным и отправили на принудительное лечение в спецлечебницу. Возможно, его этапировали в Казань. Увы, наша Республиканская психиатрическая больница печально знаменита отделением для инакомыслящих, где в 20-м закрытом отделении держали не только диссидентов, но зачем-то несколько лет «лечили» даже Порфирия Иванова, призывавшего всех обливаться ледяной водой и ходить круглый год голышом. Допросы Д.Н. Валеева в этой связи для местных гэбистов были необходимой срочной работой. Вряд ли мало кому известный журналист и писатель тянул по своему статусу на громкое дело, вроде тех, что шили в Москве Солженицыну, Даниэлю с Синявским и прочим диссидентам. Однако «профилактические беседы», проведенные с Валеевым, вполне годились для отчета о проделанной работе. Сегодня можно удивляться, зачем на такую «работу» нужно было тратить два дня подряд, но ведь протокол не может быть на двух листочках, верно? А что же стало с валеевскими рукописями? Оказалось, они очень даже хорошо горят. В апреле 1969 года Валеев едет в Москву на V Всесоюзное совещание молодых писателей, а в это время сарай во дворе материнского дома по улице Нариманова сам собой загорелся в одну из весенних ночей. Диас Назихович уверен, что его подожгли нарочно, хотя один из следователей Виктор Степанович Морозов (кстати, отец нынешнего первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации!), выйдя на пенсию, несколько раз в 90-х годах божился Валееву, что к пожару на улице Нариманова их ведомство не имело никакого отношения. Весной 69-го случилось небывалое половодье, подпол на даче залило, рюкзак свалился с табурета в воду. Написанное пером (чернилами, а не теперешней шариковой ручкой) размылось в сплошную нечитаемую синеву… Это был страшный удар, оправиться от которого было трудно. Еще тяжелее было сознавать, что на «дальнейшей литературной работе», как и на еще не написанных произведениях можно ставить жирный крест. К тому черновику, который Валеев включил в свой четырехтомный документальный роман, позже была сделана приписка: «Неожиданный звонок в редакцию. Просьба прийти. Диалог в коридоре. - Какие коридоры у вас запутанные. - Да… можно зайти и не выбраться. В кабинете четыре человека – Морозов, Кожахметов, Галиуллин и еще один, сидевший в углу, не участвующий в беседе, но все записывавший. Два многочасовых допроса… Результат бесед: документальную повесть «День за днем» вернули из Таткнигоиздата (просто принесли в редакцию и отдали), в московской «Молодой гвардии» не пошла книга, которая намечалась…» Перспективы были ясны – увидеть что-либо напечатанным в Казани или Москве молодому автору удастся очень нескоро. Если вообще посчастливится когда-нибудь. В конце шестидесятых – начале семидесятых годов прошлого века сложившийся строй казался настолько незыблемым, что на перемены курса никто не рассчитывал. Даже мы, молодые, не могли поверить, что когда-нибудь доживем до иных эпох. Пройдя таким образом огонь и воду (сарай и подпол), автор пропавших рукописей все же еще надеялся услышать медные трубы. Диас Валеев решил начать все сначала,
I.3
Во все времена успех в театре означал славу. Наутро после премьеры автор часто просыпался знаменитым. Михаил Булгаков, когда его прозу перестали печатать, переписал роман «Белая гвардия» в пьесу «Дни Турбиных» (на нейтральном заголовке настояла цензура). Премьера во МХАТе сразу принесла ему неслыханную славу. Нет ничего удивительного, что и Диас Валеев решил пойти по тому же заманчивому, но такому неверному, непредсказуемому пути. При первой же встрече с главрежем камаловского театра автор посчитал своим долгом предупредить о своей «неблагонадежности». В двух словах пояснил, куда и зачем его полгода назад вызывали. Марсель Салимжанов внешне на это никак не реагировал, хотя, как руководитель Академического театра, вряд ли мог пропустить эти сведения мимо слуха. Насторожило его другое: пьесу татарского драматурга, увы, пришлось читать по-русски. Впрочем, Марсель Хакимович, как и Диас Назихович, вырос в Казани, так что хорошо понимал, почему автор плохо владеет литературным татарским языком. Салимжанов детство провел в камаловском театре (его родители были известными актерами) и поэтому родной язык не просто знал, но говорил и писал на нем правильно. Диас Валеев татарский знает не настолько хорошо, чтобы на нем писать. Как известно, у татар литературные нормы существенно отличаются от бытовой речи. Русским с этим повезло: Александр Сергеевич Пушкин заложил основы современного русского литературного языка очень близкими к разговорным формам («Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу станет веселей»), поэтому мне не понять трагедии моего героя. Но вернемся в год 1969-й. Итак, Марсель Салимжанов высказал автору самое благожелательное отношение к его первой пьесе. Аяз Гилязов взялся переводить пьесу, что можно было в свою очередь считать своего рода гарантией, что она будет поставлена. Окрыленный автор написал и принес в театр вторую пьесу – трагедию «Охота к умножению». Она также выросла из ненапечатанного рассказа, основанного на реальном уголовном деле и воплощенного в газетном очерке. Новую пьесу Диаса Валеева взялся переводить другой татарский классик – Гариф Ахунов. Тогда же появилось и другое название пьесы «Когда твое достояние – совесть», ко времени премьерной афиши трансформировавшееся в «Суд совести».
I.4
Кажется, мы забежали вперед. Нам еще не раз придется, впрочем, забегать и возвращаться к разным годам и разным пьесам. И дело не в том, что автор исторического очерка о драматургии Диаса Валеева не в ладах с элементарной хронологией. Сама жизнь сплошь и рядом нарушала примитивный календарный счет. Так, скажем, вторую пьесу нашего героя поставили раньше первой. А третья принесет ему всесоюзную известность, хотя она не входит в круг пьес, рассматриваемых в этой части нашего повествования. Что же вышло с пьесой «Сквозь поражение»? Пока Аяз Гилязов переводил ее на татарский, автор показал русский ее оригинал молодому столичному режиссеру Владимиру Андрееву, уже известному по стране благодаря ролям в кино (он и сегодня снимается в телесериалах). Так счастливо сложилось, что в сентябре 1970 года Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой приехал в Казань на гастроли. Окрыленный театральными надеждами начинающий драматург, до того бывавший в театрах эпизодически и в общем-то не являвшийся завзятым театралом, теперь считал своим долгом ходить на все спектакли, тем более столичные. Однажды по окончании очередного спектакля Диас Валеев с супругой (кстати, искусствоведом) зашел за кулисы, чтобы поздравить известного актера и уже набиравшего силу режиссера Андреева с успехом у местных зрителей. А от себя прибавил, дескать, пьесы-то можно было бы выбирать и лучше. Владимир Алексеевич огрызнулся, мол, сами знаем, что современная драматургия – не фонтан… Но местный нахал не унимался, знать де надо, где искать. Вот я сам пишу пьесы. И намного лучше того, что вы сейчас играли. Хотите почитать? Завтра принесу. Столичная знаменитость нахала не прогнала, более того, пьесу его прочла. Через полмесяца после окончания гастролей ермоловцев в редакции «Комсомольца Татарии» раздался междугородний телефонный звонок… Так Валеев познакомился с режиссером, который принесет ему в дальнейшем всесоюзную известность. Вряд ли можно было бы назвать это славой, о которой Диас Назихович мечтал в те годы, тем не менее – такого успеха на столичной сцене, такого признания московских критиков в центральных изданиях из казанский драматургов не имел никто ни до ни после Валеева! Однако пока до славы было далеко – целых два года постоянных телефонных звонков в Москву, поездок в столицу, переделок сначала «Поражения», потом «Охоты», в которых начинающему драматургу неоценимую редакторскую помощь оказала заведующая литературной частью ермоловского театра Елена Леонидовна Якушкина. Профессиональный литературный переводчик театральных пьес, она всю жизнь отдала работе с молодыми драматургами. Сначала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а потом и в театре Ермоловой она пробивала пьесы многих провинциальных авторов. Сегодня из этого списка помнят в первую очередь Александра Вампилова – иркутского писателя, к жизни и творчеству которого, как я и обещал в начале повествования, мы будем не раз обращаться. Елена Леонидовна имела редкую душевную особенность – она умела влюбляться в своих авторов. Разумеется, не как женщина, а именно любовью редактора. Судя по афише ермоловцев тех лет, можно сказать уверенно: завлит Якушкина свое дело знала – и многого добилась. Хотя по тем застойным временам сделать это в Москве было крайне сложно. Вот и в Диаса Валеева она влюбилась сразу. Сначала за драму «Сквозь поражение», которую вместе с автором правила почти пять месяцев, а потом и за трагедию «Охота к умножению», которую она преподнесла главрежу Андрееву так, что тот теперь никак не мог решить, с какой же пьесы театру следует начать дружбу со «своим автором».
I.5
Был у первых драматических произведений Диаса Валеева еще один читатель, мнение которого было бы чрезвычайно для нас интересным, но, увы, его мы никогда уже не узнаем. Это Александр Вампилов, с которым Елена Якушкина сдружилась намного раньше, чем с Валеевым. Именно она познакомила иркутского и казанского драматургов. Диас Назихович вспоминал, как Елена Леонидовна потащила их пить кофе в соседнюю кафешку, они мило беседовали обо всем. Вампилов произвел на Валеева очень приятное впечатление – остроумный, интеллигентный, образованный. Якушкина потом давала ему читать вампиловские пьесы, из чего можно сделать смелое предположение (документальных свидетельств не имея), что и Вампилов читал у нее в кабинете («пенале») первые пьесы казанского автора. На Диаса Валеева произведения иркутского знакомца не произвели особого впечатления. Запомнилось лишь, что это были хорошо сделанные вещи. Елена Леонидовна к тому же не преминула заметить, что над всеми вампиловскими пьесами она очень много работала с автором. Уж не намекала ли, что хороши они, отчасти, благодаря ее стараниям? А то, что та умеет править и редактировать – Валеев скоро прочувствовал на себе. Вампилов с Якушкиной познакомился, когда только начинал свой путь в драматургии, к сожалению, такой короткий. Как пишет Елена Леонидовна в воспоминаниях, «в конце декабря 1964 года, часов в семь, вечером, в комнату литчасти Театра на Малой Бронной вошел молодой человек в меховой шапке и спросил: – Здесь литчасть? – в комнате было полутемно, горела только настольная лампа, и потому лицо вошедшего было трудно разглядеть. – Видите ли, я вот написал пьесу. …Так началось мое знакомство с Сашей Вампиловым, началась наша дружба, которая продолжалась без малого восемь лет. Это были напряженные и сложные годы его жизни. За это время он написал почти все свои пьесы, учился два года на Высших литературных курсах, часто летал из Иркутска в Москву… Живя в Москве, он каждый день приходил в Театр им. М.Н. Ермоловой, куда «мы с ним перешли» летом 1965 года». «Живя в Москве» относится, нужно понимать, не к 1965-му, а к 1970-1971 годам, когда Александр Вампилов, став членом Союза писателей СССР, получил возможность поступить на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького СП СССР – на творческий семинар Виктора Сергеевича Розова и Инны Люциановны Вишневской. В 1971 году Вампилов был драматургом уже почти знаменитым, разве что только в Москве не поставленным. Про Вампилова говорили на каждом углу, но в театральных изданиях пока не упоминали. Он был то ли полузапрещен, то ли полуразрешен… Битва Якушкиной за право постановки пьес Вампилова на столичной сцене шла на протяжении пяти лет, встречая враждебное противодействие со стороны деятелей Управления культуры Мосгорисполкома. Министерства культуры РСФСР и СССР к иркутскому драматургу были настроены более лояльно, поэтому вампиловские пьесы ставились в разных городах страны и даже в Ленинграде – главном конкуренте «театральной Мекки» (каковой всегда в России значилась Москва). Однако столичные городские власти в лице чиновников Н. Сапетова, М. Мирингофа, И. Закшевера стояли стеной. «19 февраля состоялось обсуждение твоей пьесы в Управлении культуры. Этому предшествовали мои ежедневные хождения туда и разговоры, иначе они читали бы еще три месяца. Еще до обсуждения было ясно, что они (после «Провинциальных анекдотов») весьма критически настроены в твой адрес. Обсуждение было бурным. Тройка: Сапетов, Мирингоф… а главное… Закшевер просто разъярились, как будто бы ты их всех лично когда-то оскорбил. Конечно, Закшевер и др. все повторяли, что «он талантливый, способный» и т.д., но… «семья Сарафановых неблагополучная, отец – слабый человек, углубить!»… Главное – единодушное возмущение вызвал образ Михаила Кудимова. «Компрометируется самое святое – образ советского солдата. Он выписан дураком, бурбоном, дубом и т.д.»… Резюме обсуждения: «Доработать пьесу с автором, т.к. мы тоже хотим, чтобы его имя достойно появилось на московской афише!» (письмо Е.Л. Якушкиной, 1969). Яростная тройка гонителей была известна и Диасу Валееву, во всяком случае, их фамилии он до сих пор помнит, поскольку и ему от них доставалось. В переписке с Вампиловым всплывает множество подробностей придирок к автору, за которыми сквозит и тайная причина недоброжелательства властей: грядет великий юбилей вождя мирового пролетариата! Еще в 1968-м вышло Постановление ЦК КПСС о подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. «Сто недель ударного труда» предписывались не только работникам заводов и совхозов. Все театры страны должны были выстрелить образцовым репертуаром, в котором не могло быть места бытовым комедиям, мелкотемью, а паче сатире «на самое святое». Вот почему Вампилова упорно не допускали на московскую сцену. Кстати, первая постановка Диаса Валеева в Казани по тем же причинам случилась не в 1969-м, как он мечтал («Сквозь поражение»), а лишь в конце 1970-го с «Охотой к умножению» («Суд совести»), то есть после юбилейных торжеств… Впрочем, даже мы тогда (школьники начальных классов) знали, что «ударные вахты» никогда не кончатся: сразу после юбилея Победы начнется подготовка к очередному съезду партии (с подведением итогов очередной «пятилетки»), далее идут юбилеи Великого Октября, в следующем году – Ленинского комсомола… Пятилетний цикл юбилеев и ударных вахт в брежневский период правления выкристаллизовался и зацементировался в обязательную для исполнения форму, к которой все волей-неволей привыкли.
I.6
К сравнению пьес Вампилова и Валеева, их творческим схождениям и различиям, мы подступим ниже, а сейчас отметим чисто внешнее сходство двух авторов. Они действительно были похожи и на портретах тех лет могли показаться чуть ли не братьями-двойняшками, тем более и возраст один – Вампилов был на девять месяцев и десять дней старше Валеева. В Иркутске все знакомые безошибочно угадывали в Вампилове бурята. В Казани Валееву никто не отказывал в принадлежности к титульной национальности. Но это лишь в Иркутске и Казани. В Москве, пожалуй, только специалисты-антропологи смогли бы найти внешние различия между бурятом и татарином (рядовым москвичам невдомек, что среди казанских татар много рыжих и синеглазых). Столичные знакомые, прежде всего та же Якушкина с Андреевым, в них видели большое сходство. Чуть раскосые черные глаза, скошенные в сторону бескрайних монгольских степей, курчавые темные волосы – это одни и те же черты с двух разных портретов, Вампилова и Валеева. К тому же оба были среднего росточка, щупленькие. Вампилов не носил очков и усов, как Валеев, зато уже имел в багаже изданную в Иркутске книгу рассказов «Стечение обстоятельств» и членскую книжку Союза писателей СССР. К тому времени комедия «Старший сын», раздолбанная в пыль закшеверами в Мосгорисполкоме, уже вышла отдельным изданием в московском издательстве «Искусство» (правда, в библиотечке для народных театров), а драма «Утиная охота» была напечатана в журнале «Ангара» (солидно, но провинциально). На момент знакомства Александр Вампилов уже имел опыт постановок своих пьес в Иркутске, Ленинграде и ряде других областных театров. Так что при знакомстве с Диасом Валеевым он имел право на некоторую снисходительность. Тем не менее, воспоминания Валеева пронесли сквозь годы образ симпатичного веселого человека, хорошего интеллигентного собеседника. Вампилов рассказывал о литинституте, о семинарах Розова и Вишневской. И хотя Виктора Сергеевича часто на занятиях не было (классик часто разъезжал по миру), а Инна Люциановна не особо выделяла пьесы Вампилова среди сочинений других слушателей ВЛК, но тот ценил уже саму возможность два года пожить в Москве на не плохую в общем-то стипендию (150 рублей инженеры не все получали). Может быть, именно тогда Диас Валеев решил, что тоже пойдет на Высшие литературные курсы, как только вступит в Союз писателей СССР. В анкетах Вампилова и Валеева можно обнаружить много общих мест. Начать с того, что оба родились в маленьких райцентрах. Впрочем, станция Кутулик (в переводе с бурятского «яма») лишь позднее станет районным центром Иркутской области. На момент рождения в семье учителей Вампиловых третьего сына селение представляло собой что-то промежуточное между деревней и поселком городского типа, легко узнаваемое в пьесе «Прошлым летом в Чулимске». Диас Валеев родился в деревне Казанбаш («казан» в переводе с татарского – котел, «баш» – голова, башка, что в сочетании тоже можно трактовать как «котловина, яма») Арского района Татарской АССР 1 июля 1938 года. Так по метрикам, а по рассказам матери, герой нашего повествования появился на свет то ли в тряском тарантасе на проселочной дороге, что ведет из деревни в Арск (райцентр в сорока километрах от Казани), то ли во дворе Арской районной больницы. Спрашивается, зачем родителям, жившим тогда в Казани, понадобилось срочно ехать в Казанбаш? Позднее в путаницу с местом своего рождения Диас Валеев внесет интригу – публично заявит, будто родился, возможно, в Испании, в которой тогда коммунисты воевали с франкистами. В СССР переправляли пароходами испанских детей, порой совсем младенцев (см. документальные кадры в фильме Андрея Тарковского «Зеркало»). Уж не ради ли легализации младенца понадобилась легенда о рождении в тарантасе на безлюдном тракте? В Казанбашском сельсовете зарегистрировать приемыша было проще, чем в Казани, где тогда проживали родители. И назвали они Диаса испанским именем. Впрочем, в этом биографическом компоте даже следователи с «Черного озера» толком не разобрались, так что нам, театральным историкам, остается его лишь выпить. Вернемся к сравнениям в биографиях. Оба наших героя с детства были причастны к литературе. До ареста (по вымышленному, как часто в те годы случалось, доносу) директор Кутуликовской школы Валентин Никитич Вампилов преподавал старшеклассникам русский язык (забудем его бурятское происхождение) и литературу – поэтому третьего сына назвал Александром в честь Пушкина. «Солнцу русской поэзии» в 1937 году широко отмечали юбилей… только И.В. Сталин мог додуматься отмечать 100 лет не со дня рождения, а со дня гибели поэта! В доме Вампиловых даже после расстрела отца (тот был реабилитирован лишь в 1957-м) оставалось много книг, а мать хоть и преподавала математику, но к русской классике детей своих приобщала весьма настойчиво. Что же касается Валеева Назиха Гариповича, он работал первым секретарем Алькеевского райкома партии, но в сорок третьем, когда Диасу исполнилось пять лет, отец был арестован. Ни по одному из обвинений (а было таковых 21 пункт!) себя виновным не признал, а следователи за год не смогли найти ни одного доказательства вины – поэтому секретаря райкома вынуждены были освободить и восстановить в правах. Однако, уже после показательного процесса, его отправили на фронт рядовым, правда, не на передовую, а в железнодорожные войска. Мать, Зайнуль Мухамедовна, родная сестра известного татарского писателя Аделя Кутуя, именем которого теперь названа одна из улиц Казани, впоследствии стала известным врачом. Тем не менее, детям она упорно прививала любовь к литературе. Оба «Ва» тайно ждали своих отцов, оба страдали от косых взглядов, которые были неизбежны в отношении к детям репрессированных. Слава Богу, оба избежали страшной участи «детей врагов народа», которых сгоняли по специальным детдомам (в одном из таких домов под Казанью чуть не погиб ныне известный на весь мир писатель Василий Аксенов, сын председателя Казанского горисполкома Павла Аксенова и казанской журналистки Евгении Гинзбург, посаженной раньше, а позднее написавшей «Крутой маршрут»), поэтому оба после школы без придирок смогли поступить в свои университеты – Иркутский и Казанский. Студенческая юность обоих пришлась на лучшие годы хрущевской «оттепели», когда университетская молодежная среда бродила новыми веяниями, бредила новыми именами, бередила ищущие души. Будущие драматурги находились в самой гуще университетской жизни. Оба в годы учебы начали писать рассказы и ходили в лучшие литературные объединения своих городов. На мой взгляд, Вампилову больше повезло с компанией – из иркутского литературного содружества тех лет вышли такие известные писатели, как Валентин Распутин, Вячеслав Шугаев, Марк Сергеев. Многие годы друзья поддерживали друг друга, вместе ездили на Байкал, где летом снимали один дом, жили там литературной коммуной и писали, читали друг другу, обсуждали написанное. Да, и казанских сподвижников Диаса Валеева по лито знала страна – это прежде всего поэт Рустем Кутуй (кузен нашего героя), драматург Роман Солнцев (Ренат Суфеев взял себе такой псевдоним, переехав в Красноярск, где недавно умер). Но, быть может, казанцы не стали так известны, как иркутская «могучая кучка», ибо были с самого начала разобщены и не помогали так друг другу, как это умеют делать сибиряки? Особенностью литературной жизни Казани всегда считалось не столько разобщение по национальному признаку, сколько напряженные отношения среди деревенских татар и городских, которые сообща презирали татар крещеных, кряшен. Среди русских писателей водоразделов было еще больше – между западниками и славянофилами, между «продавшимися власти» и «предавшими устои», между признанными талантами и графоманами. Впрочем, писательская среда во всех провинциальных городах была больна (ныне, кажется, уже смертельно) ущербным обособлением каждого от всех. Иркутский случай, когда молодые начинающие писатели жили дружно и кучно, продвигали себя весело и напористо, возможно, единственный за полвека случай, когда сложилась группа не в столице. Они не были «деревенщиками», как Валентин Распутин, пожалуй, самый известный среди них, их сплотили не литературные пристрастия, а причастность к Слову. Свой путь в литературу и Вампилов, и Валеев начинали с поденной работы в журналистике. И характерный факт – оба с молодежных газет. Это сейчас в каждом городе выходят десятки газет и журналов, а при советской власти все было лимитировано: областным (Иркутск) и республиканским (Казань) центрам полагалось иметь одну партийную и одну комсомольскую газеты. Позже, с конца семидесятых, стали дозволять «Вечерки», как правило, они являлись органами горкома КПСС и выходили действительно ближе к вечеру (сейчас такая «мелочь» всеми забыта – и «Вечерняя Казань» давно уже выходит по утрам). Так что выбор был невелик, если не брать в расчет многотиражек крупных заводов. При таком раскладе «молодежка» считалась менее престижной, но в творческом плане почти везде оказывалась редакцией более живой и раскрепощенной. Во всяком случае, свои журналистские годы в «Комсомольце Татарии» Диас Валеев вспоминает всегда тепло, подчеркивая особо, что в те подцензурные застойные годы пишущим давали больше творческой свободы, чем мы имеем теперь. Лично он всегда писал лишь о том, о чем сам хотел. Поскольку мне довелось работать в той газете, когда она изменила название на «Молодежь Татарстана», могу свидетельствовать – это всегда была самая живая и неуживчивая редакция. До сих пор мы, два-три поколения «молодежкинцев», собираемся, чтобы вспомнить лучшие годы… Разумеется, все знали, что такое работа «на самоконтроле». Строгий идеолог-цензор сидел внутри каждого газетчика, однако выбор тем и личный взгляд на проблему редактор «Комсомольца» не ограничивал. Если же учесть, что татарин Диас Валеев пришел в русскоязычную газету «Комсомолец Татарии», не имея журналистского или филологического образования, можно сказать, что ему повезло вдвойне. Но продолжим сравнения двух «Ва». Как журналисты, они много работали в жанре очерка, ныне практически отмершим за ненадобностью. Оба стали первопроходцами в освещении больших комсомольских строек. Для Вампилова главной стройкой стала Усть-Илимская ГЭС на Ангаре, для Валеева – Камский автомобильный завод в Набережных Челнах. Диас Назихович до сих пор не без гордости отмечает, что его публикация в центральной газете «Советская Россия» в декабре 1969 года, а затем в журнале «Смена» стали первыми в СССР печатными упоминаниями о начале строительства автограда. Тогда даже с названием не определились – звучащей несколько по-арабски аббревиатуры еще никто не слышал. Этакий Колумб КамАЗа, Диас Валеев в Набережных Челнах появился раньше, чем в партийных органах официально утвердили кандидатуры спецкоров, потом многие годы кормившихся той «стройкой века». КГБ как всегда прозевал «самовылазку» неблагонадежного писателя, «очернителя советской действительности», а позже не стал препятствовать валеевским поездкам в Набережные Челны. Продолжить сравнение двух «Ва» можно было бы еще и тем, что оба начинали с прозы. Но эту сторону их творчества мы сознательно оставляем за пределами нашего исторического очерка, поскольку речь ведем прежде всего о драматургии и театре. Отметим лишь, что в своих пьесах оба часто использовали фабулы и характеры из своих прозаических текстов.
I.7
Пьесы Валеева и Вампилова уже при внешнем сопоставлении дают много примеров для сближения. Характерно, что действие первой пьесы Диаса Валеева «Сквозь поражение» начинается вечером на остановке, где случайно встречаются Салих и Дина. «С а л и х. Куда вам надо идти сейчас? Туда? Давайте лучше бродить сегодня там, где никогда не бываем. Сейчас восемь часов. Когда стрелка дойдет до двенадцати – разойдемся. Где бы ни были. На любом перекрестке. Д и н а. Странно… Это прием у вас такой?» Правда, у Валеева пара встречается зимой на трамвайной остановке. У Вампилова герои первой его комедии «Прощание в июне» встретились летом на автобусной. Таня читает афиши. «К о л е с о в. Девушка, куда вы едете, если не секрет?.. (У афиши). В кино?.. Нет? Ну, значит, на концерт… Тоже нет?.. Куда же вы собрались? Неужели в театр?.. Все ясно. Куда – вы этого сами еще не знаете. А раз так, то идемте со мной. Т а н я. Пригласите кого-нибудь другого… И вообще у меня нет времени с вами разговаривать. К о л е с о в. Это неправда… Вы сколько раз прочли афиши? Скажите честно. Т а н я (не сразу). Три. Ну и что? К о л е с о в. Видите, вам скучно. Т а н я (пожала плечами). Просто я смотрю, куда завтра пойти. К о л е с о в. А сегодня? Куда вы хотите? На танцы? На концерт? На массовое гуляние? Т а н я. Все это завтра. Почитайте. А в парке – через неделю. К о л е с о в. Чепуха! Мы откроем все это сегодня… На первый случай я приглашаю вас на свадьбу». Хорошее начало знакомства – сразу пригласил на свадьбу! У Валеева первое свидание развивается еще экстравагантнее: молодая парочка отправляется гулять… вокруг земного шара, переводя стрелки часов по мере приближения к полуночи назад, в соответствии с разными часовыми поясами. Молодежная мода шестидесятых требовала удивить девушку нестандартным подходом, оригинальными речами. В этом смысле оба драматурга следуют вызовам своего времени, нам же любопытно отметить, что в своих устремлениях независимо друг от друга они шли в одном направлении. Но у Вампилова дальнейшая сцена на свадьбе разворачивается в комедию, то следующий эпизод дня рождения Салиха Валееву служит завязкой дальнейшей драмы. И «Сквозь поражение» начинает перекликаться уже не с «Прощанием в июне», а со знаменитой вампиловской «Утиной охотой». Хотя взаимоотношения Лукмана Самматова с приемными сыновьями позволяют нам продолжить цепочку наших сопоставлений в сторону взаимоотношений Сарафанова с родным детьми и нежданно объявившимся «старшим сыном» Бусыгиным. Отметим, что вампиловско-валеевские связи не случайно обнаруживаются в образах Салиха и Зилова. Оба персонажа могут служить примером наиболее раннего появления в отечественной драматургии «героя застойных времен» – молодого человека тридцати с небольшим, разочаровавшегося в своих идеалах и общих целях, в окружающих людях и женщинах. Но главная их черта – судят они не других, не окружающий их затхлый мир, а прежде всего самих себя. Такой герой появится у авторов так называемого «поствампиловского периода», драматургов «новой волны» конца семидесятых годов – Виктора Славкина (Бэмс из «Взрослой дочери молодого человека» и Петушок в «Серсо», сыгранные Альбертом Филозовым в культовых постановках Анатолия Васильева), Александра Галина («Восточная трибуна»), Людмилы Петрушевской и других. Лукман Самматов строит заводы, а его сыновья пристраиваются к теплым местам, пробивая себе дорогу при помощи своего приемного отца. У Зилова в вампиловской «Утиной охоте» отец тоже высокопоставленный человек, о чем можно судить по единственной реплике сына, который нехотя обмолвился, папаша у него, мол, персональный пенсионер. И сразу всем становилось все понятно, ведь «персоналки» тогда прежде всего давали либо бывшим партийным функционерам, либо крупным хозяйственникам. Зилов прозябает в Центре технической информации, хотя получил инженерное образование. Мог достичь бы большего, если бы папашу не «ушли» на пенсию? Предположение по тому времени вполне правдоподобное, хотя вряд ли к образу Зилова подходящее. Кстати, в документах, подшитых в четыре тома Диасом Валеевым, мы наткнулись на любопытное письмо: «Уважаемый Диас! Министерство культуры СССР и Президиум Правления ВТО приглашают Вас принять участие в конференции театральных деятелей стран социалистического содружества на тему «Образ современника в драматургии и на сцене театров социалистических стран». Учитывая важность данной конференции просим Вас быть непременно! Ответственный секретарь Президиума Правления ВТО, заслуженный работник культуры РСФСР, кандидат искусствоведения М.Зилов». А мне всегда казалось, что Вампилов фамилию своего главного героя выдумал. Образовал от знаменитой, давно теперь забытой марки грузовика производства Завода имени Лихачева. Сюжетные совпадения особенно разительны в кульминационных точках – и «Сквозь поражение» и «Утиная охота» высшего эмоционального накала достигают в сценах, действие которых происходит… в ресторане. У Вампилова Зилов напивается и пытается срывать маски с себя и приглашенных, в результате получает по морде от официанта Димы. А наутро по его адресу приносят траурный венок «Безвременно сгоревшему на работе Виктору Зилову» («Пошутили, сволочи!»). У Валеева Салих встречает в ресторане Дину, которая ждет своего мужа. Ее муж тоже хочет заехать Самматову по морде. А в итоге Салих оказывается в постели официантки («Все мужики – сволочи!»). То, что происходит с ним, автор комментирует заглавиями трех действий: «Надежды», «Ослепление», «Крушение». Единственную трехактную драму Александра Вампилова «Утиная охота» можно было бы сопроводить точно такими же подзаголовками! Во всяком случае, эти три валеевских подзаголовка многое объясняют в том, что случилось с Салихом и с Зиловым. Доказательством верности наших сопоставлений могут служить финалы обеих пьес – в них герои пытаются покончить с собой. Кстати, оба автора «подложили» им под руку далеко не самые для того удобные орудия. Зилову само название драмы подсказывает стреляться из охотничьего ружья. А вот как в руках Салиха вдруг оказался нож, Диас Валеев обосновывать даже не пытается. Коли уж Самматов ученый, возится с мышами, логичнее было бы хватить какого-нибудь лабораторного яду или прикоснуться к высоковольтному проводу? Зрителей вынуждают догадаться, что ни тот, ни другой герой сделать над собой ужасного не смогут – помимо естественного страха смерти и инстинкта самосохранения, довольно трудно нажимать большим пальцем ноги на курок (Зилов) или протыкать ножом самому себе грудь (Салих). Но главное препятствие даже не в этом – обоих героев от суицида останавливает очевидная даже для них самих недостаточность мотива. Александр Вампилов заканчивает «Охоту» жирным многоточием или вопросительным знаком: после неудачной попытки самоубийства Зилов долго лежит на тахте лицом в подушку и плечи его трясутся то ли от рыданий, то ли от смеха – потом он встает с совершенно каменным лицом и говорит по телефону официанту Диме: «Извини, старик, я погорячился… Да, все прошло… Совершенно спокоен… Да, хочу на охоту… Выезжаешь?.. Прекрасно… Я готов… Да, сейчас выхожу». У Диаса Валеева Салих, оставшись в одиночестве, сворачивает мячик из последней своей научной статьи по синтезу ДНК, смотрит, как тот катится по полу и берет нож: «Что-то нужно делать… Убрать обломки?.. Что-то же нужно делать!» В это время часы бьют двенадцать, с улицы доносится звон трамвая, потом сирена «Скорой помощи» – этими звуковыми напоминаниями автор намерен вернуть нас к началу пьесы, на трамвайную остановку, а герой между тем произносит финальный монолог: «Кто мы? Лишь миг. И надо наполнить этот шаг, наполнить его чем-то! Но чем? Неужели душа дешевле золота? И неужели геометрия только Эвклидова, а неэвклидовой нет? А бессмертие? Но ведь если я, если он не навеки, то зачем мы? Ведь кто-то нас позвал сюда, в этот мир! И зачем тогда мы, если мы не навеки здесь? Перевести бы стрелки на десять лет… Хотя бы на пять!» У Вампилова после своей последней реплики Зилов не трогается с места. И у Валеева остается за кадром, убил себя Салих или нет. Видимо, для авторов было важнее остановиться именно на вопросительном знаке с многоточием?.. В любом случае, при похожести жизненного итога, к которым пришли Виктор Зилов и Салих Самматов, мне представляется значимым то, какими средствами авторы ставят последнюю точку. У Вампилова мы слышим простой набор дежурных фраз, за которыми читаются невероятная боль и жуть растерзанной души. У Валеева за фразами о геометрии и бессмертии в общем-то угадывается та же драма… Однако как-то не очень верится, что такие слова могут слетать с языка человека, направляющего нож себе в грудь. Я вовсе не призываю сравнивать меру мастерства и таланта, хочу лишь указать на принципиальную разницу вампиловского стиля, который вырос из чеховской «новой драмы» («герои просто носят пиджаки, пьют чай, а в это время разбиваются их сердца»), и валеевской манеры все воздвигать на котурны философских обобщений, устремлять к вечным смыслам – в чем угадывается следование традициям Горького, Достоевского. Одним словом, несмотря на схожие для авторов «начала и концы» мы наблюдаем четкое несовпадение эстетических установок. И об этом стоит поговорить особо.
I.8
Диас Валеев никогда больше не перечитывал вампиловских пьес, с которыми познакомился в машинописных рукописях у Елены Якушкиной. Тем не менее, из современных им драматургов и предшественников всегда считал себе равным только Александра Вампилова (современных сочинителей он не знает). Когда я начал работу над этим повествованием, Диас Назихович попросил привезти ему сборник Вампилова. И даже теперь, через столько лет, он назвал хорошей пьесой лишь «Прошлым летом в Чулимске». А раньше мне не раз доводилось слышать от него язвительные высказывания про «Утиную охоту» в частности и про вампиловских героев в целом: «что-то мелкое, серое, унылое». Понятно, почему. Валееву в драматургии Вампилова не хватает масштаба характеров, силы страстей. Тут следует уточнить: представления Диаса Валеева о том, как делать пьесу, во многом соответствуют устаревшей и одиозной книге Владимира Волькенштейна «Теория драмы», изданной в 1939 году солидным издательством «Академия». Почему я говорю об этом с такой уверенностью? В 1980 году Валеев давал мне ее с таким напутствием: не вздумай, мол, потерять или зажать это редкое издание. В волькентштейновых выкладках, отдающих немецким нафталином времен «бури и натиска», окрашенных в революционные цвета русской революции, по мнению Диаса Назиховича, имелось абсолютно все, что нужно было знать начинающему драматургу. И хотя сам Валеев теперь считает теорию Волькенштейна лишь близкой своим взглядам на драматургию, но отнюдь не определяющей, все же очень многое из той забытой книги отразилось в его драматургическом творчестве. Критик свои наблюдения основывал на трагедиях Шиллера, Шекспира, Пушкина, к эстетике которых всегда тяготел Диас Валеев, мечтавший в своих пьесах изображать мега-характеры. Не знаю, был ли автор «академической» теории драмы родственником того графа Волькенштейна, который в XVIII веке род Щепкиных объявил своими крепостными. Те всегда были свободными, и пострадали лишь за то, что у деда Григория был чудный бас – графу очень захотелось иметь его среди певчих в своем церковном хоре. Позже великому русскому актеру, реформатору сценического искусства Михайле Семеновичу Щепкину с превеликим трудом удалось вырваться из волькенштейновой кабалы самому, выкупить отца и всю семью. Мне кажется, Диас Валеев оставался в зависимости от теоретических выкладок Волькенштейна все годы драматургической деятельности, несмотря на их явную замшелость и ортодоксальность. «Завязка – кульминация – развязка»… Эти термины еще в начале прошлого столетия Станиславский и Мейерхольд считали полным анахронизмом, не имеющим никакого отношения к драматическому искусству. С другой стороны, можно понять, что привлекало Диаса Валеева в компиляции немецких представлений о позавчерашнем театре – апология сильных характеров, призыв к изображению бурных конфликтов, чрезмерных страстей, то есть всего, что имеет отношение к романтическому направлению в театре. К чему весьма удобно находить примеры из трагедий Шиллера и Шекспира. И что делает Ибсена с Чеховым графоманами, скучнейшими драмоделами, «безыдейными» и «бесконфликтными», каковыми при жизни, кстати, обоих и честили. Волькенштейновские требования к драме (крупные характеры, драматический накал до наивысшего градуса) весьма пригодились классицисткой по своей сути драматургии советского периода. Партийные заказчики требовали идеального героя, какого не бывает в жизни, ожидали от пьес вымышленных в угоду власти конфликтов. Ждановские указания сталкивать лбами хороших персонажей с более лучшими (на чем основывалась «теория бесконфликтности» 40-50-х годов ХХ века) во многом определяют направление социалистического реализма, которое все годы советской власти навяливали театру. Однако следует признать, что волькенштейновщина ничего не объясняет и не определяет в драматургии Пушкина, Гоголя, Островского, Тургенева, Толстого, Чехова… одним словом, она осталась на обочине российской драматической дороги. Повторим с сожалением, что не знаем мнения Вампилова о пьесах Валеева. Хотя можем предположить, что он их у Якушкиной видел и, возможно, читал. Как поклонник вампиловской драматургии, могу лишь догадываться, что именно мог думать Александр Валентинович об «Охоте к умножению» или первой пьесе – «Сквозь поражение». С первого взгляда в них бросается в глаза слишком привычный для советской драматургии тематический круг образов, характеров и конфликтов. Заколдованный круг, за пределы которого сам Вампилов с первой же своей пьесы старался вырваться вполне осознанно, пусть не всегда удачно. Именно непохожесть вампиловского художественного стиля, литературного лада, драматургического строя сразу обратила внимание критиков и театроведов, заставила тех подыскать к его творчеству ключи и сопоставления в классическом репертуаре. Писавшие о спектаклях по вампиловским пьесам (даже после трагической смерти автора) все время пытались найти первоисточник в мировой драматургии, с которым иркутского самородка можно было бы соотнести. Сравнения «Прощания в июне» с комедией Карела Чапека «Разбойник», «Старшего сына» с комедией «Двойник в столице» Алонсо Морето (испанского драматурга XVII века), «Утиной охоты» с толстовским «Живым трупом», «Провинциальных анекдотов» с гоголевским «Ревизором» стали общим местом. Подобные сближения всем столь очевидны, что возникает подозрение, уж не сам ли Александр Вампилов подбросил оглоедам-театроведам эту кость, намеренно пустив их по ложному или, наоборот, нужному следу? На третьем курсе Литинститута я писал курсовую работу «Виктория Александра Вампилова» – о главной героине «Истории с метранпажем», а заодно и победе драматурга в посмертном споре с критиками. Перечитал все тридцать с лишним статей о его творчестве и спектаклях по его пьесам, которые были заявлены в каталоге дотошно полной литинститутской библиотеки (через десять лет после гибели Вампилова ни одной книги о его жизни и творчестве еще не написали). И привел одиным списком всех разбросанных по разным статьсям классиков, каких критики посчитали «праотцами» вампиловских сюжетов и образов – от Эсхила до Розова, от Плавта до Чехова, от Шекспира до Зощенко. Перечисление трех десятков великих имен уже само говорит о полной бесперспективности попыток причислить Вампилова к заурядным подражателям. Если он и продолжал чьи-то традиции, то всей мировой драматургии в целом. Причем демонстрировал виртуозное владение арсеналом накопленных в драме выразительных средств. И абсолютно не ориентировался на генеральную линию советской драматургии с ее «оптимистическими трагедиями» и «старомодными комедиями». Чем уже вызывал раздражение «закшеверов». Почему же вампиловская «Утиная охота» при первом прочтении не произвела на Диаса Валеева особого впечатления? Неужели дело лишь в обычном и таком извинительном чувстве ревности? Или непонимание гениального вампиловского замысла имеет глубокие личностные корни? Думается, не случайно даже теперь, спустя годы, за которые Театр Вампилова и главный его шедевр стали всеми признанной классикой, Валеев не желает признавать «Утиную охоту» ничем более, как «хорошо скроенной пьесой, довольно мелкой по характерам». Ничего предосудительно мы в том не видим. Он имеет полное (а мы должны признавать естественное авторское) право считать, что лучше написал своего героя Салиха Самматова, кстати, очень похожего на Зилова. К тому же Диасу Валееву дали основания так считать в Московском театре имени М.Н. Ермоловой, где вампиловские пьесы многие годы только числились в планах, но никак не могли попасть на сцену, а первую же валеевскую пьесу сразу включили в репертуар.
I.9
Дух Волькенштейна явственней всего проступает в валеевской «Охоте к умножению», поскольку писалась она непосредственно под влиянием его книги и поэтому строилась в духе немецкой «Бури и натиска». В ней проглядывают прямые следования букве «Теории драмы» Волькенштейна. Даже реалии советского времени не помогли мне тогда, когда я впервые прочел «Охоту», избавиться от ощущения, будто передо мной шиллеровские персонажи из «Коварства и любви», переодетые в костюмы ХХ века. Так же напыщенно говорят, такие же страсти «рвут в клочья». На юбилей профессора Арсланова прилетает из Сибири сын Гариф. Крупный хозяйственник, начальник буровой конторы, руководитель новой формации, он может себе позволить целый час гонять над футбольным полем вертолет, чтобы просушить газон перед матчем на первенство области. Младший сын Арсланова опаздывает на семейное торжество, опять задерживается на работе. Азгар работает в прокуратуре, ведет одно щекотливое дельце. А чтобы следователь Арсланов прекратил «ворошить», ему подсунули старую архивную папку – о гибели его матери… Шантаж только раззадорил Азгара: тот начинает собственное расследование и выясняет, что их с Гарифом мать не покончила с собой – ее убил отец! Пытаясь выяснить истину, герой идет до конца, хотя правда разрушает его брак, ссорит окончательно с братом-буровиком, губит отца, сводит с ума сестру. Короче, Гамлет и товарищи. Насчет сравнения Азгара Арсланова с Гамлетом – это не моя выдумка. С нее начиналась первая рецензия на дебют Диаса Валеева в его родной газете: «Гамлет в прокурорском мундире? Сама мысль о такой ситуации ужаснет иного эстета. Что же до сущности, – то Гамлет вечен, и что самое главное, Гамлет в каждом из нас, это совесть наша, это боль наша, это вечное сомнение: быть или не быть?.. Эти мысли – не новые, но вечные – рождаются, когда смотришь спектакль Татарского академического театра им. Г. Камала. Автор пьесы – наш коллега и сотрудник, геолог по образованию – молодой (по возрасту – за 30) драматург Диас Валеев» (Роберт Копосов «Не убивал, но предал», «Комсомолец Татарии», 22.11.1971). Премьера прошла довольно громко. И теперь автор с удовольствием вспоминает, как на нее в камаловский театр пришел и лично его поздравил подполковник Гатауллин, один из тех, кто два года назад проводил с автором двухдневную беседу. Диас Валеев руку гэбисту пожал, но решил схохмить, сделать вид, будто не признал («мы знакомы, может быть, вы театральный критик?»), чем сконфузил подполковника в присутствии театрального руководства. И еще с удивлением отмечает: на премьеру не пришел никто из его «собратьев по перу». Исключение составил один поэт, который полгода спустя, во время застолья (перекура на кухне), вдруг сознался Диасу Валееву, что приходил на премьеру… по поручению того самого полковника госбезопасности Морозова, а вовсе не по приглашению однокашника по литобъединению. В годы перестройки тот всеми уважаемый поэт неожиданно для всех покинул Казань, переселился поближе к Москве. Как видим, Комитет государственной безопасности тоже заказывал «рецензии» на спектакли по пьесам Диаса Валеева. Разумеется, не случайно. Перечитывая заново его пьесы, теперь я невольно сравниваю «Охоту к умножению» с повестью Юрия Трифонова «Дом на набережной», поставленной в Театре на Таганке в конце семидесятых. Только вместо публицистической заостренности трифоновской прозы, интересно инсценированной Юрием Любимовым, мы видим попытку вознестись к вечным категориям. Предательство профессором Арслановым своего учителя Валеев предлагает мерить высшей мерой. Не случайно в самом начале пьесы тот полностью зачитывает 102-ю сура Корана: «Увлекла тебя охота к умножению, пока не навестил ты могилы. Так нет же, ты узнаешь. Потом, нет же, ты узнаешь. Если бы ты знал знанием достоверности… Ты непременно увидишь огонь. Потом непременно ты увидишь его оком достоверности… Потом ты будешь спрошен в тот день о наслаждении». Отец профессора Арсланова подчеркнул эту суру ногтем, с зажатым Кораном в руках и умер. Все мы будем спрошены в день Судный, о том, как жили и грешили… Кораническая планка не случайно задана с самого начала пьесы. Она же дала название первой постановке – «Суд совести». В те советские атеистические времена упоминание Аллаха, священных сур пророка Мухаммеда уже можно было посчитать крамолой. И в КГБ этот факт наверняка отметили. Но, как ни странно, цензура довольно спокойно пропустила религиозный текст на сцену. Хотя предложила театру название пьесы на афише изменить. А нам любопытно было бы сопоставить поведение Азгара и другого следователя. Я имею в виду Шаманова из последней вампиловской пьесы «Прошлым летом в Чулимске», написанной, кстати, на год позже «Охоты к умножению». У Диаса Валеева героя просят не копать дело о преступлении начальника районной ГАИ. У Александра Вампилова Шаманов отстранен от дела за то, что хотел посадить водителя, сбившего насмерть старушку. Как оказалось, тот оказался сыном одного высокопоставленного лица. О том и другом преступлении говорится вскользь, однако именно эти экивоки помогают понять читателям и зрителям, что речь идет о вседозволенности чиновников районного масштаба, которым по силам замять даже дела об убийстве. Такое было нормой советской жизни, к сожалению, ничего не изменилось и сегодня – Россия всегда была в полной власти людей во власти. А народ по этому случаю поговорку сложил: «Кому власть – тому и сласть». Следователь Арсланов окунается не только в историю собственной семьи, но и в сталинское прошлое своей страны. И мрачному времени доносов и публичных шельмований в пьесе дается однозначная оценка. Но у Азгара есть еще в пьесе брат Гариф – тот открыто прославляет вседозволенность «хозяев жизни», поскольку сам в поселке буровиков живет этаким удельным князьком. Вряд ли КГБ оставил без внимания, такую проблематику пьесы Диаса Валеева «Охота к умножению» и поставленного по ней спектакля «Суд совести». Следовательно, профилактические беседы не пошли на пользу? В связи с этим становится понятно, почему хороший спектакль Марселя Салимжанова, имевший положительную прессу и несомненный зрительский успех, так недолго шел на камаловской сцене. А спектакль по этой пьесе в Новосибирске вообще запретили. И в Ульяновском драмтеатре «Охота к умножению», которую ставил молодой татарский режиссер Фарит Хабибуллин (заметим в скобках, этот человек по возвращении в Казань основал Татарский театр юного зрителя, на пенсии стал преподавателем нашего театрального училища и активистом КПРФ, после столкновения с милицией в день выборов 2007 года он безуспешно пытался подать на обидчиков заявление, но выходя из здания прокуратуры… неожиданно упал на улице и вскоре умер) тоже вызвала неоднозначную оценку со стороны властей города и тоже вскоре был снята. В Москве эту пьесу собирался ставить в театре имени К.С. Станиславского режиссер Лесь Танюк, однако дальше планов дело не пошло… И все же – лиха беда начало! Спектакль в театре имени Г. Камала открыл казанской публике имя нового драматурга. Для Диаса Валеева это был прорыв из «литературного подполья» к свету рампы, к рецензиям в республиканских газетах, к иному способу общественного существования. Кстати, и материально «Охота» несколько улучшила положение его семьи. До сих пор Диас Назихович называет ее своей любимой пьесой.
I.10
Третью по времени написания пьесу Диаса Валеева «Продолжение» мы оставим для второй части нашего повествования, поскольку та стала началом трилогии, требующей отдельного разговора. А пока попробуем объяснить, по какому принципу мы классифицируем периоды творчества нашего героя. Пушкин призвал судить художника по законам, им самим над собою принятым, поэтому давайте и мы определим, чем руководствовался автор в своих художественных сочинениях. Пора нам подступить к первому упоминанию о диасизме – религиозном учении, которое, быть может, еще не сложилось тогда в определенную, текстуально оформленную теорию, но уже существовало в сознании его пророка. Именно в том 1969 году, с которого мы начали свое повествование, случилось «второе откровение новой сверхрелигии», которое пережил Диас Валеев, стоя на пепелище сарая во дворе дома по улице Нариманова, где жила его мать. Если помните, в том сарае сгорела большая часть рукописей молодого писателя, огромное количество черновиков, среди которых были и наброски первого варианта будущего учения о мегачеловеке и Сверхбоге. Первое произошло семью годами раньше, 16 ноября 1962 года, в Горной Шории, в поселке Одрабаш, где молодой специалист-геолог работал по распределению после окончания Казанского университета. Что это было? Снисхождение небесной благодати, в один миг раскрывшей перед двадцатичетырехлетним искателем истины все то, к чему он шел в долгих размышлениях о себе, о жизни, о человеческой истории? Во всяком случае, тот день, точнее полдень, тот краткий миг озарения прочно врезался в сознание нашего героя как один из самых важных, высших моментов его жизни! В «Сокровенном от Диаса» Валеев опишет это глубочайшее духовное переживание коротко: «наитье, в котором… в один миг явились основные черты будущего учения». Основной идеей диасизма сам пророк признает обращение к человеку: стать мега- или богочеловеком, прийти от не-бога (дьявола) и Бога (единобожие Христа, Будды, Мухаммада и нынешних адептов мировых религий) к Сверхбогу – и супер-религии, объединившей бы всех верующих Земли в одном религиозном служении. Наверное, толчком к духовному прозрению, какое пережили сотни его ровесников в Советском Союзе, послужили события пятидесятых – шестидесятых годов прошлого столетия, когда на смену Сталину, тиранически властвовавшему более тридцати лет, вдруг пришел его придворный плясун Никита… Хрущев выступил с открытой отповедью «культу личности» (правда, на закрытом заседании ХХ съезда партии), чем дал невольный всплеск оживления духовной жизни общества, смене культурных координат, новой волне в отечественном искусстве. Теперь очевидно, что в планы нового генсека не входило устраивать «оттепель», однако выпустить джинна из бутылки всегда легче, чем загнать его обратно. Тысячи молодых людей, главным образом студенчество, восприняло происходящие на их глазах перемены как сигнал к действию. Молодые много читали, спорили, искали. Вампилову повезло – у него были в Иркутске старшие наставники и единомышленники среди студентов, начинающих писать. К тому же таким Саню сформировал Кутулик – он был веселым компанейским парнем. Валеев по характеру всегда был более замкнут, более склонен к внутренней интеллектуальной работе, не выставлявшейся напоказ. Однако и Валееву было с кем откровенничать. Ему повезло в том, что главным его собеседником стал старший брат Радик – человек широчайших познаний и всесторонних увлечений, впоследствии ставший доктором геолого-минералогических наук, во всем был для младшего брата примером, не случайно Диас пошел на геологический факультет Казанского университета. Кухонные споры братьев велись в рамках неокоммунистической идеологии. Собственно, диасизм как религиозное учение мог родиться лишь на идеологической платформе, свободной от религиозных догм и возросшей на советской пропаганде, которая с детского сада до университета вдалбливала в сознание лозунги о свободе, равенстве и братстве, об обществе, где «свободное развитие каждого, является условием свободного развития всех» и где воздается «каждому по потребностям», а спрашивается с каждого «по способностям». Коммунизм – будущее человечества. С этим утверждением можно соглашаться или не соглашаться, тем не менее, мир и в двадцать первом веке движется в сторону все большей глобализации и гуманизации, несмотря на отдельные вспышки реакции. Очевидно, приближающееся будущее не станут называть коммунизмом, слишком уж данное понятие испоганили за семьдесят лет большевики и присвоившие его себе зюгановцы. Диас Валеев с юных лет тоже мечтал о светлом будущем человечества и искал пути приближения к нему в книгах, беседах со сверстниками, в собственных размышлениях. Со временем эти мысли сложились в универсалистскую концепцию, которая, по мнению ее создателя, вполне отвечала требованию «все гениальное – просто». Он нашел собственного бога, точнее говоря, Сверхбога. Главная идея диасизма содержит «императив, обращенный к человеку: стань мега- или богочеловеком!» Призыв подняться на уровень богосостояния содержится в §1 «Сокровенного от Диаса». Далее показываются ступени, по которым идет все человечество и отдельный человек – из прошлого в будущее. Богу нет дела до человека, пока тот занят своими будничными мелкими заботами – поспать, поесть, добыть мамонта. Надо подняться до мегасостояния, стать самому богочеловеком, чтобы Господь заметил тебя и услышал. «В состоянии микро-я… человек служит своим инстинктам, мелким физиологическим целям, когда его связи с Космосом обесточены, он не может отвечать за мир. Он ответствен только за какую-то его микроскопическую часть. В состоянии макро-я… человек служит нации, классу, социальному слою, объединению, его национальный, классовый или групповой эгоизм тоже может быть самоубийствен. Он ответственен лишь за определенный макромир. Спасение – в выходе на мегауровень. Мессия, Спаситель порождается человеком из себя самого, из бого-я» («Сокровенное от Диаса», §8). Вся история человечества, вся мировая культура и классическое искусство – это, согласно диасизму, попытка вырваться в мега-состояние. Человек может в течение одного дня быть то микро-особью, то макро- личностью, а то вдруг воспарить до мега-сознания. Тогда мысль и чувство охватывают воедино все времена, всю планету и даже Вселенную во всем многообразии. Вопрос сверхрелигии будущего: «Поднялся ли ты, человек? Возвысился ли над собой вчерашним? Стал ли выше, чем был сегодня утром?» – именно так понимает и трактует основы диасизма его создатель. Учение в конце шестидесятых – начале семидесятых еще не обрело окончательных догматов и доводов. Нам оно пока пригодится, чтобы понять, откуда вытекает главная тема в творчестве Диаса Валеева, которая прослеживается в его рассказах, повестях и первых пьесах. Человек, пытающийся вырваться из микро-среды обитания, вступающий в конфликт с микро-уровенем в самом себе и в окружающей его действительности, проходит через ряд рассматриваемых нами пьес. Салих Самматов понимает свое «крушение» (так названа третья часть пьесы «Сквозь поражение») именно как победу в себе мелкого, рутинного, эгоистического, от чего нужно бежать любой ценой, даже ценой собственной жизни. Если судить «Охоту к умножению» с точки зрения шекспировско-шиллеровского шаблона, навязанного автору Владимиром Волькенштейном, то это самая последовательная учебная работа в творчестве Валеева. Здесь все завязано и развязано, действие развивается в полном соответствии с романтическими установками. И даже дань романтической условности отдана. Если же эту трагедию рассматривать с точки зрения валеевского религиозно-философского учения, то мы снова видим в ее героях точную проекцию диасической троичности бытия и сознания. На микро-уровне прокурор Азгар Арсланов вряд ли поддался бы на провокацию и быстро понял, что позиция «моя хата с краю» очень удобна для спокойной и размеренной жизни. На макро-уровне он не стал бы до конца копать сданное в архив дело о самоубийстве своей матери, чтобы сберечь целостность своего маленького мира – семьи Арслановых. Но Азгар упрямо тянется к высшей правде-матке, к мега-уровню сознания. Ему нужно дойти до конца, чтобы весь мир вокруг рухнул – и он увидел все пространство бытия, ощутил связь времен, почувствовал личную ответственность за все, что было, есть и пребудет. Наконец, можно рассматривать «Охоту к умножению» лишь как частный случай столкновения микро-я главного героя с его макро-я. В любом случае, конфликт в семье Арслановых выписан с трагедийным накалом, кажущимся теперь несколько архаичным. Но дело автора задавать условия игры, как завещал великий Пушкин.
I.11
Наиболее отчетливо идеи диасизма получили воплощение в трагифарсе «Пророк и черт», который в первых публикациях назывался «Пророком из казанского Заречья». Не случайно, наверное, в первом упоминании об этой комедии «Литературная газета» (21.03.1973) допустила красноречивую описку: «пророка» заменила на «прораба». В самом деле, от драматурга, дебютировавшего на московской сцене с пьесой о строителях КамАЗа, все тогда, конечно, ждали продолжения производственной тематики. Если первая пьеса «Сквозь поражение» показала автору дорогу от прозы к драме, а «Охота к умножению» стала опытом овладения волькенштейновской «Теорией драмы» на практике, то «Пророк и черт» писался уже легко и свободно на основе собственных теорий, без оглядок на чужие. Диас Валеев снова заставляет главного героя вырываться из окружающей микро-среды. Однако, если Салиха Самматова можно признать микро-человеком, которого болото карьеризма, эгоизма и обыденности засасывает все глубже, а Азгару Арсланову микро-уровень собственной семьи не позволяет подняться выше макро-сознания, то «пророк» Магфур уже в перечне действующих лиц выведен как «счастливец, человек по призванию». С самого начала он живет и действует с позиций мега-я, не просто сажая сад на пустыре среди новостроек, но всех окружающих пытаяс тянуть из микро-быта к мега-бытию. Оторвать действие трагифарса от бытового правдоподобия призваны еще два персонажа – древняя Мигри, которая все твердит о пупках («если пупок у человека втянут, то никого он не любит»), и Неизвестный, который появляется в самом начале с ненавистью («все копаешь, докопаешься»), чтобы потом появиться в финале с экскаватором («здесь будет дыра»). Что это черт, зритель должен догадаться уже из самого названия комедии. Прямолинейно-декларативные попытки Магфура доказать толстой соседке, что деревья вокруг дома он сажает не за деньги, а чтобы было красиво, или подвыпившим хамам, пристающим к той женщине, что плохо водку пить, а о душе не думать, выливаются именно в комедию – героя бьют, потом сдают в милицию. В полном соответствии с жанром, столкновение не соседних уровней (микро с макро или макро с микро), а далеких друг от друга (микро и мега) создают не трагический, а комический эффект. Магфура считают блаженным, да он и сам невольно подстраивается под эту роль. Хотя жене своей еще пытается говорить серьезно «не понимаешь ты меня», когда та его отчитывает за скандал в молочном магазине – тот отнял кошку у обижавших ее детей и стал просить в магазине налить для нее немного молока. Еще более водевильно складываются отношения внутри семьи: сын ненавидит и стесняется отца, жена изменяет с ассенизатором Хабушем. А Хабуш считает Магфура философом, современным Сократом, записывает за ним любые высказывания. Однако это не помешало ученику обрюхатить жену учителя, а потом решить, что Магфуру пора умереть, дабы своим поведением не дискредитировать собственные великие идеи. Сальери, как говорится, отдыхает… Единственным некомедийным местом в пьесе стала сцена в начале второго действия, когда Магфур заново сажает яблони, с корнем вырванные сыном. Драматург становится серьезным, когда его герой вспоминает о войне: «Я ведь знаешь, когда первую яблоню в землю посадил? Старик на войне землю копал. Самый настоящий ад был, горело все от огня. Дом его горел, а он сад, огнем выкорчеванный, снова сажал. Когда последнюю яблоню посадил, его и убило. А для меня она первая была. Тогда я истину узнал. Не догадывался только сначала, что истина». В 70-х годах прошлого века культ Победы в Великой Отечественной войне насаждался Брежневым в качестве нашей главной исторической гордости. Наверное, поэтому автор отправляет героя по «самому святому» маршруту. И вряд ли ему самому, читателям и зрителям тогда приходило в голову, что когда вокруг все горит, человек не станет сажать яблони – просто негде будет взять саженцы. Да и не приживутся они на пепелище… Впрочем, ходульность некоторых положений и побудительных мотивов в этой пьесе вполне оправдана, автор на каждом шагу подчеркивает, что не стремится к правдоподобию. Перед нами фарс, буффонада, преувеличение во всем. Похожие фарсы-агитки писал Маяковский («Клопа» – сатиру на мещанство ему простили, но «Бани» – сатиры на советскую бюрократию простить не смогли). От пьесы к пьесе Диас Валеев идет всю дальше от бытописания действительности к преувеличенной театральности, условности происходящего. Если «Сквозь поражение» еще несет в себе приметы реализма, а «Охота к умножению» тяготеет к возвышенному романтизму, то «Пророк и черт» напоминает атмосферу комедий эпохи классицизма, где персонажи выступали носителями одного порока или страсти, проще говоря, помазаны одной краской. Характеры прямолинейны, объем создается в результате их сложения и взаимодействия. Магфур, как и положено в комедии, конечно, побеждает. Когда в финале черт пригоняет экскаватор, чтобы на месте сада вырыть яму, дыру, их диалог звучит символически. - Здесь будет дыра! – кричит черт. - Сад, сад!.. – не сдается Магфур. - Дыра!.. Последнее слово отдано черту. Но автор не сомневается, что останется оно все-таки за его идеальным героем. Марина Всеволодовна Кобчикова, когда мы беседовали с ней о драматургии Диаса Валеева, именно «Пророка и черта» назвала в числе пьес, которые хотела бы поставить со студентами в качестве дипломной работы – заслуженная артистка республики наряду со служением в театре много лет преподавала мастерство актера в Казанском театральном училище. Увы, задумка эта не осуществилась. Сценическая судьба этой пьесы вообще оказалась не особо счастливой. В Москве ее собирался ставить Лев Дуров, однако к репетициям в театре на Малой Бронной так и не приступил. На читке в театре имени Г. Камала труппа приняла «Пророка» восторженно, но «черт» не допустил ее выхода на сцену. По сведениям автора, пьеса была поставлена лишь в Великих Луках. И еще один очень важный доброжелатель нашелся у этой комедии. В первом томе документов «Портрет одного художника» есть интересное письмо: «Дорогой Диас! По-моему, «Пророк» – лучшее, что Вы пока написали. Поздравляю. Может быть, это личное, но меня герой такого характера необычайно волнует и кажется поиском высокой нравственности. Пьесу, вероятно, придется «чистить» (!) Я буду ее рекомендовать Г.А., когда это станет возможным физически. Всего Вам хорошего, привет моей тезке. Д.Шварц, 13VI73». Неизвестно, показала ли завлит Ленинградского БДТ Дина Шварц валеевскую комедию Товстоногову или мэтр оказался недоступен. Тем не менее, сам факт, что верная помощница «великого Гоги» и соавтор всех его инсценировок была необычайно взволнована героем Диаса Валеева, дорогого стоит. Увы, вскоре и она вернула автору все экземпляры его пьес. Повесть «Сад», которая легла в ее сюжетную основу, позже дала название одному из первых сборников писателя, вышедшего в Казани. Впрочем, самому автору лет через пять после написания комедия эта принесла неожиданный сюрприз. Однажды супруга писателя, Дина Каримовна, пришла домой из магазина и сразу с порога заявила: - Собирайся! Иди со своим героем знакомиться. Оказалось, возле одного из домов в новостройках казанского Заречья, где Валеевы получили квартиру (в девятиэтажке, где открыли известный казанцам магазин «Океан», давший название остановке общественного транспорта и неофициально – всему микрорайону «Океан»), появился чудак, который сажал деревья вокруг дома просто так, от любви к прекрасному. Диас Валеев действительно пошел туда, познакомился с этим человеком. А потом описал его в одном из очерков для «Литературной газеты», включил его в число примеров для подтверждения существования мега-человека в окружающей действительности, когда писал свои религиозно-философские трактаты – «Истина одного человека, или Путь к Сверхбогу», «Третий человек, или Небожитель», «Уверенность в Невидимом».
I.12
Последняя пьеса, которую, согласно предлагаемой нами классификации, следует рассматривать в контексте противостояния микромира и человека, рвущегося из него, написана в Москве, на Высших литературных курсах при Литературном институте имени А.М. Горького. «Вернувшиеся» несут в себе отпечаток столичной жизни: в ней много формалистических вкраплений, всегда модных в литобщаге. Они придают возвышенную тональность довольно простой по сюжету истории: к молодому ученому-физику приходит незнакомка, выясняется, что девушка получила смертельную дозу облучения в институте, где они работают. Разумеется, ученый не помнит какую-то лаборатнтку. Однако что-то с ним вдруг случается, он отдает ей все деньги, а потом мчится за ней на автовокзал, чтобы увезти Дину (думается, героиня не случайно представилась именем героини первой пьесы и супруги писателя) в деревню, где в ста километрах от города у него дом, озеро и лес – там они проживут короткую, но счастливую жизнь, там ей приснится свадьба, а он подарит ей обручальное кольцо… Любовный треугольник разрывает другая женщина, влюбленная безответно в нашего физика. Ревнивица насылает по следу соперницы бригаду врачей. Ту забирают, из больницы она уже не вышла. Герои пьесы нарочито не имеют имен, они практически лишены биографий, национального колорита. Символичность, оторванность происходящего от быта призваны оттенить и усилить стихотворные вкрапления в виде плача нерожденных детей на фоне надмирной музыки. Жаль, поэтические отрывки заимствованы из разных источников («от Омара Хайама до Габдуллы Тукая, от Мигеля Отеро Сильвы до Халины Посвятовской»), а не написаны автором. Из-за того, наверное, возникает ощущение литературно-музыкальной композиции, «ТРАМовского» монтажа. Тем не менее, пьеса «Вернувшиеся» не лишена внешнего новаторства и психологической глубины, что само по себе отличает ее от ранних пьес Валеева – достаточно традиционных по форме и содержанию. История облученной и обрученной девушки, которая в последние дни своей жизни (она знает, что впереди только смерть) награждена истинной любовью, деревенским покоем и внутренним ладом, прозвучит по-новому уже через десять лет, когда на страну обрушится беда Чернобыля. В конце семидесятых в московском издательстве «Современник» вышла книга «Драматурги России» известного критика, главного редактора журнала «Театральная жизнь» Юрия Зубкова. Там, среди творческих портретов ведущих драматургов РСФСР Леонида Леонова, Сергея Михалкова, Анатолия Софронова, Исидора Штока, Анатолия Алексина и представителей национальных республик – башкира Мустая Карима, чувашина Николая Терентьева, бурята Цырена Шагжина, появилась и глава «Максади экса» – о Диасе Валееве. В ней впервые дается подробный разбор пьес героя нашего повествования. А мы заметим для себя, что в почетном ряду софроновых-алексиных не оказалось не только «бурята» Александра Вампилова, но даже классика Виктора Розова. После скандала по поводу своей острой антиноменклатурной драмы «Гнездо глухаря», запрещенной в Театре Сатиры (Анатолий Папанов играл в том знаменитом спектакле главную роль), Розов не только не одумался, но и взялся писать еще более скандального «Кабанчика» – и в результате выпал из всех «поминальников». Сам по себе факт появления статьи о творчестве Диаса Валеева стал значительным событием. Увы, тот ряд, в котором его привел Зубков, что-то обозначил и для недоброжелателей, которых в Казани у нашего героя стало еще больше. «О ком бы и о чем бы ни писал Валеев, какие бы сюжеты и темы ни разрабатывал, он неизменно проявляет себя как писатель, умеющий остро ставить самые коренные, самые важные проблемы времени. Менее всего ему свойственны уклончивось и расплывчатость в оценке тех или иных жизненных явлений. Он умеет не только беспощадно срывать маски с ловких дельцов, где бы они ни преуспевали, в строительстве ли, в науке ли, но и обнажать корни делячества, потребительского отношения к жизни», – такой видит критик доминанту в творчестве Диаса Валеева. Глава в книге Юрия Зубкова не случайно называется «Максади экса» –это восклицание героя «Вернувшихся». Так же Диас Валеев озаглавил свой рассказ на этот же сюжет (раньше драматург свои повести и рассказы переделывал в пьесы, а не наоборот!). Что же это такое? Словосочетание «Максади экса» восходит к мусульманской традиции, означая высшую цель, идеал человечества. Физик начинает думать не только о своих термоядерных защитах, но о смысле бытия («Если бы человек с рождения облучался не злом, не корыстью, а красотой!»). Такую в целом оценку ставит главный редактор журнала «Театральная жизнь» тех лет «Вернувшимся»: «Главный нравственный и художественный итог пьесы состоит в том, что герой выходит из нее иным, нежели вошел в нее. С иным сознанием и иным чувством, иной степенью ответственности за все совершающееся в мире. Женщина умирает. Любовь остается с ним. Она его внутренний голос, она его совесть». Добавим, он вышел не просто с иными чувствами – за три дня он стал седым. Значит, действительно многое понял? Театры эту пьесу Диаса Валеева не ставили. В те годы не принято было играть спектакли без антракта. А «Вернувшиеся» по своему метражу больше подходит к разряду одноактных пьес, в те годы считавшихся уделом художественной самодеятельности. Ныне в Казанском театре юного зрителя чуть ли не каждый спектакль играют без антракта, даже шекспировскую пятиактную трагедию «Ромео и Джульетта» режиссер Владимир Чигишев сократил до одного часа – и ничего, зрителям нравится! Но тридцать лет назад это не было нормой. Исключение в Казани, пожалуй, составили лишь два тюзовских спектакля «Оборотень» Аугуста Кицберга в постановке Александра Клокова (1977) и через десять лет мои «Четыре вечера и одно утро». Но исключения только подтверждают правило, одноактные спектакли в профессиональном театре было редкостью по тем временам. Поэтому «Вернувшихся» дважды поставили в любительских театрах Казани. Причем – редкий случай – обе постановки стали лауреатами республиканского смотра-конкурса «Театральная весна». В 1979 году в народном театре «Ровесник» Дворца культуры имени С. Саид-Галеева пьесу поставил Виктор Кременчуцкий, а на следующий год ее играли в камерном «Театре драмы и поэзии» клуба Льнокомбината (в бывшем Алафузовском театре) в постановке Зои Куликовской. В то время Диас Валеев возглавлял Совет по работе с творческой молодежью при обкоме ВЛКСМ и активно поддерживал задумку замдиректора Казанского Молодежного центра Сергея Овсянникова о создании на его базе Молодежного экспериментального любительского театра («МЭЛТ»), где лучшие самодеятельные коллективы могли бы показывать широкому кругу зрителей свои новые постановки регулярно. Увы, минкульт, облсовпроф и комсомол не поддержали эту идею, хотя народные театры Казани тогда действительно были на подъеме. Зато ее автора Сергея Овсянникова, коль уж он так рьяно ратовал за Молодежный театр, вскоре назначили директором Казанского тюза, который действительно переименовали в Молодежный. Сейчас народных театров в Казани давно уже нет, а аббревиатурой МЭЛТ назвалась одна казанская компьютерная фирма. А его известному соавтору Диасу Валееву, так серьезно взявшемуся потакать творческой молодежи, предложили при газете ОК ВЛКСМ «Комсомолец Татарии» вести литературное объединение. Он назвал его «Литературной мастерской», первое занятие состоялось в декабре 1979 года. Но о нашей «альма-матер» я уже упоминал. И все же «Вернувшиеся» вернулись к зрителям обходным путем – через голубые экраны телевизоров. Точнее говоря, это был один из первых телевизионных спектаклей на Казанской студии телевидения, где Виктор Кременчуцкий работал режиссером. В 1981 году он поставил небывалый по тем временам телеспектакль – с использованием светомузыкальной установки СКБ «Прометей» Булата Галеева, балетных партий в исполнении народной артистки ТАССР Ирины Хакимовой и Виталия Бортякова, сложных спецэффектов с наложением цветных вкраплений на черно-белые кадры кинохроники. Все это воспринималось чуть ли не революцией на местном ТВ, ведь компьютерного монтажа не существовало в помине, а телевизионная техника, после Московской Олимпиады-80 списанная в Казань, еще только осваивалась местными специалистами. И все же телеспектакль Кременчуцкого стал тогда художественным явлением не благодаря наворотам цветной картинки (тогда у большинства горожан стояли дома черно-белые ящики), а замечательной игре актеров качаловского театра – моей бывшей сокурсницы по театральному училищу Лидии Огаревой, ее будущего мужа Феликса Пантюшина и старой знакомой нашего героя Марины Кобчиковой. Все трое особенно убедительны были на необычно длинных крупных планах, непривычных тогда на телевидении. И в заключение позвольте сделать небольшое отступление. Маленькое обыкновенное чудо сотворил своей пьесой герой нашего повествования. Пожалуй, самым замечательным эпилогом к тому неординарному телеспектаклю стал роман Лиды и Феликса, зародившийся во время ночных съемок. Телевизионное начальство долго не разрешало Виктору Кременчуцкому эту постановку – режиссеру приходилось работать внепланово, практически по-партизански, после вечернего прямого эфира. Да и занятые в театре актеры не могли работать в другое время. Герои пьесы Диаса Валеева слышали плач нерожденных детей и понимали, что их короткая любовь будущего не имеет. А Огарева вскоре вышла замуж за своего экранного партнера и вскоре родила ему дочь. Елена Пантюшина потом училась в Казанском театральном училище на курсе Марины Кобчиковой, слушала мои лекции по истории театра. Она стала хорошей актрисой, работает в Москве. В прошлом году наша отличница Лидочка стала бабушкой.
Трилогия «не о КамАЗе»
«Дарю тебе жизнь» «Диалоги» «Ищу человека»
Диас Валеев впервые побывал на строительной площадке будущего Камского автомобильного завода в конце 1969 года. Его статьи в газетах «Комсомолец Татарии» и «Советская Россия» стали первым упоминанием в печати СССР о начале строительства автогиганта в Набережных Челнах, продукция которого ныне занимает первые места в международных ралли среди большегрузов. Картина грандиозной «стройки века» вдохновила Валеева на пьесу не сразу, года два спустя. В процессе ее написания забрезжила даже мысль о драматической трилогии. Во всех трех пьесах, и в особенности в первой драме «Продолжение» автор подчеркивал, что КамАЗ послужил для него лишь отправной точкой, действие не привязано географически к Набережным Челнам. Однако уже перечень действующих лиц дает понять, что все это происходит в Татарстане. В начале семидесятых годов «производственная драматургия» набирала обороты. Вслед за «Человеком со стороны» Игнатия Дворецкого и «Сталеварами» Геннадия Бокарева появляется целый легион пьес, действие которых разворачивается на «производстве». Своего рода «социальный заказ» исходил из руководящих кабинетов – партчиновникам от культуры надоело мелкотемье «оттепели», да и генеральная линия партии диктовала равнение на «грандиозные свершения». Уже через 10-15 лет такую политику обзовут «гигантоманией», но тогда масштабы строек впечатляли даже обывателей. В самом деле, стоит ли строить просто завод легковых автомобилей? Нужно возвести самый крупный в Европе завод! В Ставрополе-на-Волге, переименованном в ходе строительства АвтоВАЗа в город Тольятти (памяти умершего вождя итальянских коммунистов), появился завод по выпуску отечественных «Фиатов». Им придумали неудачное название «Жигули», в экспортном варианте машины пришлось переименовать в «Лады», поскольку в европейских транскрипциях оно казалось неприличным, а у нас их всегда называли «копейками», «шестерками», «девятками» (наверное, одному мне жаль старого названия, ведь я вырос вблизи Жигулевских гор, для меня те места – самые красивые на Земле!). Впрочем, семейство «девяток» уже копировало не «Фиат», а немецкий «Народный вагон». Легкового автомобиля, достойного конкурировать с западными моделями, у нас так и не появилось. «Город на Каме, где – не знаем сами» должен был явить миру самый современный большегрузный автомобиль, которого и в проекте еще не было. А не было проекта потому, что в ходе строительства самого крупного в Европе автогиганта модель машины могла устареть. К моменту пуска завода она все-таки устарела, конечно, однако до сих пор остается непревзойденной. Во всяком случае, нескончаемые победы татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» на международных ралли доказывают, что российские автоконструкторы тоже могут, когда захотят (или генералы им прикажут). Когда речь шла об оборонной промышленности («КамАЗ» задумывался в первую очередь для военно-стратегических задач), в СССР умели прыгнуть выше головы. Для народа сделать приличный автомобиль не получилось. По иронии судьбы город, где родился новый автозавод, тоже переименуют в честь умершего партийного вождя – в 1981 году Набережные Челны станут Брежневым. К счастью, ненадолго…
II.1
Трудно было ожидать от Диаса Валеева полотна, воспевающего генеральную линию партии. Взявшись за производственную тематику, писатель, прежде всего, думал о «главном сюжете, который каждому писателю дается на всю жизнь». Своего трехипостасного человека автор мог теперь поместить в среду более масштабную, чем семья, квартира, двор. Ему важно, чтобы его герои преодолевали не просто инерцию бытовухи, семейных дрязг, соседских разборок, но сталкивались с силой куда более мощной – силой стаи, клана, класса. Одним словом, из микромира конфликт производственной трилогии «не о КамАЗе» переходит в макромир директорских кабинетов, министерских интриг, столкновения государственных интересов с личными мотивами и амбициями, способностями отдельного человека на большие дела и умения взять на себя огромную ответственность. Масштаб диктует и новый размах картинки. Не случайно уже первую ремарку своей первой производственной пьесы Валеев начинает абсурдистки-гиберполически. Далеко не каждый драматург возьмется описывать для будущих режиссеров и художников-постановщиков место действия таким странным образом: «… степь, развороченная, распластованная на десятки километров… какие-то конструкции, головоломные и фантастичные; падают искры от сварки, доносится натужный вой, урчанье тяжелых, многотонных машин. И не поймешь, что это – день, ночь. И на эту грубую музыку, на гул работающей степи, обнажившей древнее свое нутро, ложатся отдельные сцены пролога». Насчет «древнего нутра». Строительство автозавода возле маленького уездного городка Набережные Челны началось действительно с грандиозной акции, невиданной доселе по своему масштабу и в итоге по салтыково-щедринской глупости: какому-то умнику в Москве пришла (в голову ли?) мысль – снять с будущей строительной площадки весь плодородный слой земли, чтобы не зарывать его гусеницами, а использовать для сельскохозяйственных нужд. Мощные грейдеры соскоблили почвенный слой с многокилометровой площади. А в первую же осень самосвалы и трактора завязли в непролазной грязи – обнажившаяся глина парализовала строительство на несколько недель. Надо ли говорить, что и тот плодородный слой, что свезли в большие кучи, пропал даром, так и не найдя себе сельскохозяйственного применения. Темпы строительства в результате замедлились, пуск заводов оказался под угрозой срыва… Примеров грандиозных глупостей на КамАЗе было немало, один из них лег в основу драматического конфликта пьесы «Дарю тебе жизнь». Все эти заводы можно было построить на свайных фундаментах, не требующих рытья огромного числа котлованов, однако проектную документацию профильные министерства готовили по старинке. Как в платоновском «Котловане», и через полвека пришлось было браться за кирку и лопату… Впрочем, вокруг фундаментов Сатынского сюжет драмы Валеева только раскручивается внешне, внутренний же конфликт автор выписывает между секретарем горкома Саттаровым и начальником строительства Байковым, которые столкнулись ночью на кухне последнего. «Так вот, – итожит спор Саттаров, – ты никогда не задумывался над проблемой – человек и его дело? Не задумывался, что происходит с человеком, если дело крупнее его? И что происходит с делом, если человек мельче его? А мы с тобой мельче его, мельче!» В этом, как можно понять, главная мысль Валеева, основная идея его трилогии. Человек может быть мельче того дела, за которое взялся. Наверное, в этом можно найти и главное отличие «производственной пьесы» 70-х годов прошлого столетия от «теории бесконфликтности» в драматургии 50-х. С одной стороны, конфликт Саттарова с Байковым очень напоминает столкновение «хорошего с более лучшим», с другой стороны, грандиозные задачи, которые ставит перед человеком время, оказываются ему не всегда по силам. «Интерьером, в котором проходила жизнь литературных персонажей XIX века, были в основном чиновничьи гостиные, помещичьи усадьбы, купеческие дома. Интерьером, в котором действуют литературные персонажи XX века, являются цехи заводов, стройплощадки и т.д., – писал Диас Валеев в большой статье «Размышления у театрального подъезда» в центральной газете «Советская культура» (14.12.1973). – Наиболее полно сейчас человек раскрывается через дело. Весь раскрывается, до изнанки. Без этого сегодня его характер не раскрыть. Короче говоря, проблема «человек и его дело» сейчас, на мой взгляд, один из основных объектов пристального внимания и все современной литературы в целом, и драматургии, в частности». Этот драматический конфликт автор разворачивает на довольно широкой панораме историй и судеб разных героев. Здесь и красавица-колдунья Алсу, поющая песню о жеребенке. Именно она нагадала в начале пьесы главному герою скорую смерть. В финале Саттаров действительно скоропостижно скончался – осколок войны шевельнулся у самого сердца… Здесь и его детдомовская подруга, давняя возлюбленная Ахмадуллина, которая на строительстве курирует социально-бытовые вопросы. Выписавшуюся из роддома женщину с ребенком, отец которой погиб на строительстве, заваленный полтонной глины, Ахмадуллина пустила к себе жить – но не позволила заселять вагончики, к которым не подвели воду. Здесь и начальник строительства Байков, мучительно переживающий за общее дело, однако не решившийся биться с министерской камарильей за фундаменты Сатынского. И еще множество мелких сюжетных вплетений и косвенных линий создают яркую и неоднозначную палитру пьесы «Дарю тебе жизнь».
II.2
Главный режиссер Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Владимир Андреев, прочитав первые три пьесы никому тогда неизвестного казанского драматурга Диаса Валеева, готов был, кажется, ставить, каждую из них – сначала «Сквозь поражение», затем «Охоту к умножению». Однако из политических соображений остановил свой выбор на пьесе «Продолжение», которая на афише ермоловцев получила название «Дарю тебе жизнь». И включил ее в репертуарный план вместе с вампиловским «Старшим сыном». К тому времени Вампилов – сколько можно судить о том по уже цитировавшейся нами переписке с Еленой Якушкиной («Новый мир», №9 за 1987 год) – уже написал все свои пьесы. Более того, переделал каждую из них не один раз. Вот почему даже ранняя комедия «Прощание в июне» стилистически почти ничем не отличается от прощальной драмы «Прошлым летом в Чулимске», а тематические отклики и драматургические отблески лучшей вампиловской пьесы «Утиная охота» можно найти во всех других пьесах, что делает драматургию Александра Вампилова удивительно цельной и законченной – всего в пяти произведениях. Поэтому, наверное, Саня казался Якушкиной более «старшим сыном», а Валеева она порой любила даже больше, как «младшего». Отношения Елены Леонидовны с Вампиловым к тому времени стали охлаждаться (его ставили в Ленинграде, в других городах, но Москва до сих пор оставалась неприступна). Это заметно по одному из последних его писем к ней: «Дорогая Елена Леонидовна! Письма Вашего нет, значит, ничего нового, хорошего нет. Написали бы о плохом. Все-таки. А то – ничего. Похоже на похороны. Знаю, Вам недосуг, но все же, все же… Если «Старший сын» не пойдет сейчас хоть где-нибудь, хоть в Перми, хоть у черта на куличках, мне придется в ближайшее время и самым решительным образом отказаться от сочинения пьес. Я не жалуюсь, я остервенел и просто-напросто брошу все это к чертовой матери! Вы только подумайте: хотел я 75% за «Сына» получить через Иркутский театр, читал им пьесу, они слушали, единогласно приняли, распределили роли – и вот же! Все стоит на месте, актеры выживают из театра главного режиссера (везде так, во всех театрах, по-моему), и моя пьеса становится жертвой этих интриг. Это вот на что похоже: шайка головорезов (актеры) с матерым рецидивистом, с вором в законе (режиссером) во главе проигрывают в карты несчастного прохожего (автора). А дальше? Если автор случайно остается жив, за углом его ждет местный Закшевер (и тут есть управление – честь по чести). А далее еще и еще. Скажите, ради Бога, при чем здесь искусство… Нет, все это беспросветно. А специалисты (я говорю о Вашем дорогом и любимом режиссере) тем временем разгуливают в белых перчатках и ждут пьес, в которых будут обнаружены их собственные добродетели. Да ладно, ладно. Никто не заставляет меня писать пьесы, и, слава Богу, не поздно еще на это дело плюнуть. Есть у меня такая возможность. Елена Леонидовна! Я прошу Вас, напишите мне насчет Вашего театра точно и ясно, чтоб я не надеялся, – шутки шутками, но надо ведь как-то жить дальше. Извините, что начеркал, переписывать не буду… Жду письма, целую. Ваш Вампилов». Якушкина ничем хорошим Вампилова обрадовать не смогла. «Я свой Ермоловский театр… отнюдь не защищаю, но мы действительно связаны по рукам и ногам тем, что Закшевер произвел такой шум вокруг «Сына». Я не теряю надежду, но ведь это дело далекого будущего, т.к. не забывай о 100-летии со всей тематикой и направлением репертуарной политики 1970 года. Я лично считаю, что «Старший сын» мог бы быть поставлен в 1970 году как пьеса добрая и человечная. Но я ведь только завлит, а не главный редактор Министерства культуры, и мое мнение остается моим личным мнением. Говорила с Александром Петровичем Левинским, директором Сатиры, об «Анекдотах», договорились, что он прочтет. Но я думаю, что даже если им понравится, то они не поставят их скоро. Дай Бог, чтобы я ошиблась, но боюсь, что время для всех одно. Тем более что у них было столько неприятностей с «Банкетом» (пьеса А. Арканова и Г. Горина), кажется, его окончательно сняли. Я понимаю твое состояние, Саша! Я знаю, что легко давать советы и «чужую беду» и т.д., но я думаю, вернее – верю, что надо сцепить зубы и еще потерпеть, обождать… Иначе просто невозможно жить. Ты очень талантливый драматург, родился драматургом и должен быть реализован и будешь, конечно, реализован. Весь вопрос – когда? Я сама очень много терплю и говорю об этом не с позиций благополучного человека в «белых перчатках», а с позиций старой рабочей клячи, которая тянет воз, зная, что если она упадет – воз так и останется лежать. Можеть быть, ты можешь взять работу в журнале или даже газете, чтобы переждать это тяжелое время. Сейчас лето – «мертвый сезон» в театрах. Все на гастролях. Я надеюсь, следующее мое письмо будет более веселым. PS. Сейчас встретила Валентина Николаевича Плучека. Условилась, что отдам ему твою пьесу в пятницу или субботу. Но «Банкет» у них сняли!!!» Надо признать, Елена Якушкина действительно тащила воз, ничуть не ошибаясь насчет времени, которое «для всех одно». Она познакомила с вампиловскими пьесами не только Плучека в театре Сатиры, Гончарова в театре Маяковского. По переписке видно, сколько сил она положила, чтобы через завлита Таганки Левину связаться с Любимовым… И в результате тот действительно собирался ставить «Утиную охоту», впрочем, начальство ее каждый год выбрасывало из таганковского репертуарного плана. В театре-студии «Современник» Олег Табаков ставил «Провинциальные анекдоты», но работа над спектаклем все растягивалась. Одним словом, воз все же двигался, только ужасно медленно. Даже в личных письмах Якушкина пользуется недомолвками: «не забывай о 100-летии со всей тематикой» – не называя, кому отмечают юбилей. Но причину задержки с вампиловскими постановками указала точно. За грандиозно отмечавшимся столетием со дня рождения Владимира Ильича Ленина следующий сезон 1970/1971 годов проходил под знаменем надвигающегося XXIV съезда КПСС, – и уже было точно известно, что очередной будет посвящен 50-летию образования Союза ССР. А значит, нужно воспевать дружбу народов… И если Вампилова не удавалось выдать за бурята, слишком закшеверы хорошо его знали, то Валеева ермоловцы с самого начала представили властям как национального драматурга. Тем более, что в репертуарных заявках театра он шел в связке с белорусом и литовцем.
II.3
Диас Валеев к тому времени узнал, что с ним ермоловский театр собирается играть в ту же игру, что и с Вампиловым. Главрежу Андрееву то одна пьеса понравится, то он решит ставить другую, то вдруг потребует срочно выслать ему третью – в результате вопрос о первой постановке все откладывался… Вампилов ждал его решения больше пяти лет, да так и не дождался. Валеев не смог вытерпеть и двух лет – взорвался: «Елена Леонидовна, здравствуйте, я продолжаю с Вами разговор, начатый по телефону. Здесь Вы уже не сможете прерывать меня и полностью владеть монополией на течение и смысл разговора, и я смогу сказать то, что хотел сделать в разговоре с Вами и с Владимиром Алексеевичем, и чего не смог сказать. Вы оба меня выговорили как провинившегося мальчишку, которому надо поставить за поведение двойку. Это меня как-то ошеломило. Я был вовсе не подготовлен, что вы за минутный телефонный разговор с Вами и с Андреевым («вот кончаю другую пьесу… Дадите почитать, пришлете?.. Пришлю») станете привлекать меня к такой суровой моральной ответственности. Настолько суровой, что мы теперь забыли даже о главном предмете наших отношений – двух моих пьесах, которые лежат у Вас. Я звонил тогда Вам обоим, интересуясь судьбой именно этих пьес, а разговор о третьей пьесе был разговором чисто информационным. Спрашиваем же мы друг друга о здоровье или о том, когда в последний раз ходили в кино. И если Вы мне уже поставили двойку за поведение, то теперь я попытаюсь поставить двойку Вам. Тоже за поведение. Поймите меня. Я кончаю третью пьесу. Две пьесы лежат у Вас. Мне Вы постоянно говорите, что они будут поставлены (в октябре, ноябре, декабре, с Ваших слов, я, например, был уверен, что репетиции начнутся после праздника – я же, кстати, не привлекаю Вас к ответственности за эти обещания, я имею в виду вообще Ваш театр?). Дальше, эти пьесы мне дороги. Я очень хочу, чтобы их поставили именно в Вашем театре. Это, так сказать, посылка. Так вот, на кой черт мне нужно мешать себе же, мешать этим двум пьесам, перебегать им дорогу этой третьей пьесой? Разговор о третьей пьесе я понял как разговор людей, просто интересующихся друг другом и поэтому обещал прислать. Дебютировать же в Москве в постановке Вашего театра я хочу или «Поражением» или «Охотой». Одной из этих пьес я хочу дебютировать и никакой другой. Я хочу, чтобы это был успех. Мне не маленький успех нужен, мне нужна не просто постановка в Москве, – мне нужен крупный ощутимый веский успех. И прежде всего творческий. Я считаю, что с этими пьесами (именно с этими, а не с той, третьей) и в Вашем театре (и если бы ставил еще Андреев, как он мне говорил месяц назад при том злосчастном разговоре по телефону) этого можно добиться. Для чего мне нужен успех? Почему я не хочу, чтобы три пьесы лежали в театре Вашем почти без движения, как лежат до сих пор две пьесы? Мне 33. Возраст Христа. Двое детей. 95-рублёвая работа в газете, которой я вынужден отдавать все свои лучшие – утренние и дневные силы. Успех, деньги мне нужны, чтобы работать, чтобы писать не статейки, которые никому не нужны, а прозу, больше прозы, пьесы, больше пьес. У меня сейчас есть еще сила, есть желание, есть что сказать, но время идет, и мне жалко, мне больно за каждый день, за каждый час, потраченный напрасно. Вот почему мне нужно, чтобы с начала следующего сезона сначала на афише Вашего театра, потом на афише Вашего соседа на той же улице Горького появилось мое имя. Эти афиши должны дать мне свободу – для работы! Это о себе. О том, почему я и как… О Вашем театре. Пьесы у Вас. Театру они нравятся. Вы заявили о них уже начальству. Ставьте их. Год пятидесятилетия и т.д. – я все прекрасно понимаю, но взять ту же «Охоту» – молодой коммунист в центре, положительный герой, современник, все в порядке, даже если с этой точки зрения подходить. И если театр проявит твердость в своих интересах ко мне, а театр и его руководство достаточно авторитетны, чтобы к его голосу прислушались, то в чем же дело, почему не закончить этот сезон или не начать новый «Охотой»? Повторяю, не будем считать те два года, когда, несмотря на то, что мои пьесы лежали в шкафах или столах вашего театра, мы еще не были хорошо знакомы. Все это можно понять. В конце концов, это в человеческой психологии (и в моей тоже) смотреть на каждого нового человека, претендующего на что-то, как на самозванца. И вообще на Лже-Дмитрия. Примем за точку отсчета наших отношений октябрь прошлого года. Пять месяцев пылкой влюбленности и надежд. Пять месяцев обещания и милых переговоров. И – пять месяцев колебаний с Вашей стороны. До сих пор я не знаю, какую из этих двух пьес Вы будете ставить. И когда? Когда люди женятся, они идут в загс или в церковь и составляют своего рода договор. Я проживу, я думаю, лет двадцать, тридцать, театр еще во много раз больше – я хочу, чтобы наши отношения были не отношениями пылких любовников (конъюктурные моменты – появился, например, другой любовник и надо на время прервать отношения, выкидыши пьес при словесной любви, разрыв), а строились на отношениях хорошего длительного супружества, когда можно потом отметить и серебряную, и золотую свадьбу, и, что главное, когда в результате этого супружества родилось бы немало хороших спектаклей. Я хочу этого. Чего хотите вы, я не знаю. Но так или иначе, сейчас, наверное, настала пора, когда надо уяснить отношения. Здесь могут быть три варианта. Вариант первый – вы ставите «Сквозь поражение». В этом году (об этом сезоне, наверное, уже трудно говорить). Заключается немедленно договор и возвращается мне «Охота». Или, если вы хотите оставить «Охоту» для себя, – заключается договор на «Поражение» и мне даются какие-то веские гарантии того, что «Охота» будет поставлена в конце следующего сезона. После «Поражения». Вариант второй – Вы ставите «Охоту» и возвращаете мне «Поражение». Если не возвращаете «Поражения», то заключаете на него договор и выплачиваете 75%, поскольку пьеса готова. И вариант третий – Вы ничего не ставите. У вас изменились планы, прежние ваши разговоры были не деловыми разговорами, а так, просто разговорами интеллигентных людей… об искусстве и т.д. И Вы возвращаете мне обе пьесы. Все это, я думаю, надо обсудить и остановиться на чем-то одном. Меня больше устраивает вариант №2 – постановка в конце этого сезона или вначале следующего «Охоты» и немедленный договор на «Поражение». Но здесь решать уже Вам. Сейчас, например, меня беспокоит возможность третьего варианта. Ибо требуя от меня определенных поступков, Вы сами не делаете их. Но, например, в «Московской Вечерке» – просто мне как-то сказали об этом мимоходом – когда речь шла о московских театрах и их планах, Ваш театр в этом номере просто заявил, что он будет ставить одну из национальных пьес. В понятие «национальная пьеса» может лечь, конечно, и татарин Валеев, и латыш или литовец, о котором Вы говорили, и вообще кто угодно. За несколько слов, сказанных мною по телефону, Вы с Владимиром Алексеевичем пригвоздили меня к позорному столбу, от которого я не могу оторваться уже второй день, а сами по отношению ко мне отделываетесь общим понятием «национальная пьеса». Я бы не умер от припадка скромности, если бы в том же материале была упомянута моя фамилия, о которой читатель забыл бы, конечно, через секунду после прочтения, поскольку она ему ничего не говорит. Но я был бы уверен, что Вы думаете работать со мной. Во-вторых, Елена Леонидовна, меня удивило, с какой легкостью разговор переключился с двух моих пьес (готовых, одобренных в Вашем театре, над которыми мы с Вами сидели) на третью пьесу, о которой Вы слышали только два слова, которая сделана вроде бы, но еще и не сделана и даже не это, а то, что ради этой пьесы (незнакомой Вам и неизвестно еще, удачной или неудачной – на мой взгляд-то, ничего, удачной) – Вы готовы изменить двум пьесам. В этом я тоже не вижу твердости. Где у меня была гарантия, что отдай Вам эту пьесу, Ваш театр не будет тоже также колебаться, чего-то ждать, как ждет в отношении меня чего-то с октября прошедшего года. Где гарантия, что Вы не будете дожидаться от меня четверой пьесы – половина уже сделана, через месяц-полтора я и ее сделаю – чтобы выбирать, с чего начинать в Москве, сразу из четырех пьес? Не лучше ли начать ставить одну из тех пьес, которые уже есть у Вас? Тогда речь пойдет и о других пьесах – и пятых, и десятых по счету. Когда раньше издатели «закупали» писателей на корню – Краевский, например, Достоевского – они давали им порядочный аванс, они обеспечивали им жизнь, пусть жизнь в страхе, пусть небогатую. А вы меня хотите закупить на корню, но не даете мне ничего, кроме слов. Но мне же тоже – поймите меня и не обижайтесь, тоже надо есть – и мне, и моей семье – есть, чтобы иметь время для писательства. Поэтому, пожалуйста, обсудите эти три варианта. Сейчас формируется репертуар следующего года. Я кой-какие предложения получаю. Я до сих пор от них отказывался. Кроме предложения станиславцев, сделанного ими в декабре еще, когда я приезжал в Москву, а потом частых телефонных звонков и телеграмм – насчет третьей пьесы. Просто, Елена Леонидовна, боюсь сейчас остаться в дураках. Со мной это уже много раз было. Хлопали меня по плечу, говорили всякие слова, а потом все это как-то так незаметно испарялось. Обсудите и сообщите мне, чтобы я мог иметь свободу действия или, чего я хочу, конечно, твердую уверенность, основанную на договоре и каких-то реальных шагах, что работа над пьесами начинается или скоро начнется. Скажите Владимиру Алексеевичу, что я ему звонил и домой, и в театр, но не смог дозвониться. Пьесу я Вам пришлю (в частном порядке). Сейчас у меня один только экземпляр, а я ее начал уже переделывать. Второй экземпляр у главного режиссера в нашем качаловском театре. Ему, наверное, он пока не понадобится и я его возьму и Вам вышлю. Елена Леонидовна, вчера Вы мне сказали, что Вы меня перестаете любить. Даже если Вы совсем перестанете, на моем отношении к Вам это не скажется и больше того, даже если Вы меня терпеть не сможете, я все равно буду просить Вас почитать и пятую, и десятую мою пьесу, и посоветовать мне также, как Вы мне тогда советовали. Ваша жесткая профессиональная хватка и Ваше чутье, я думаю, не изменится даже и из-за перемены отношений ко мне. И потом я думаю, что Вы и Андреев меня поймете (я, например, прекрасно понимаю Вас), и эта размолвка только крепче свяжет нас. И простите, что на машинке. Ручкой я как-то уже не способен писать. Перед Вами обоими я виноват только в том, что в разговорах по телефону недели две-три назад я пообещал прислать Вам пьесу – Вы оба, видимо, поняли это по-своему – и тем самым ввел Вас в заблуждение. Но это уже письмо начинается сначала… 14 февраля 72 г.» Привожу это письмо из авторского архива полностью, поскольку оно служит отправной точкой в отношениях не только Валеева с ермоловским театром, но и в судьбе всей валеевской драматургии. Теперь сложно гадать, как сложилась бы писательская биография, если бы его московские премьеры пошли в порядке их написания, то есть по первому варианту, предлагавшемся им. Салих Самматов из пьесы «Сквозь поражение», появись он на сцене раньше Зилова из вампиловской «Утиной охоты», составил бы новый идейный ряд для восприятия драматургии Диаса Валеева, а его «Охота к умножению» в паре с «Прошлым летом в Чулимске» лишь усилила бы эти позиции. Во всяком случае, столичные критики и режиссеры тогда не зачислили бы Диаса Валеева в совсем иную обойму имен – авторов сугубо «производственных». Вспомним, как Антон Павлович Чехов всю жизнь пытался откреститься от юного Антоши Чехонте, однако чуть ли не до смерти многие продолжали считать писателя сатириком и юмористом. Когда на кого-нибудь повесили ярлык, от него чрезвычайно трудно отказаться. Во всяком случае, сам Диас Валеев никогда не мыслил себя в ряду драматургов «производственной волны» семидесятых, таких как Салынский, Бокарев, Дворецкий, Гельман. Из современных ему авторов близким себе и равным он считал лишь Александра Вампилова. Постель ли в алькове проститутки или строительная площадка станут местом битвы его героя – для героя нашего повествования не важно. Для художника это должно быть одинаково интересно. И все же помотавшись в юности по стройкам Темиртау, Красноярска, он и теперь не отрицает, что производственная составляющая в жизни человека представляется ему необычайно важной. И до сих пор жалеет, что ермоловцы все же решили по-своему, чем значительно осложнили дальнейшую судьбу писателя.
II.4
Кстати, после такого резкого письма театр вполне мог разорвать всяческие отношения с начинающим автором, которого в Москве никто еще не знает («нет никто и звать никак»). Поэтому Диас Валеев сделал два шага назад, чтобы дождаться долгожданного шага вперед… Он все же прислал Владимиру Андрееву пьесу, которую уже читали в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. По-человечески понять Валеева, конечно, можно: «Охоту к умножению» уже поставили в Казани на камаловской сцене под названием «Суд совести», а в Большом драматическом театре имени В.И. Качалова уже репетировали «Дарю тебе жизнь», правда, в ранней редакции и под другим названием – «Продолжение» (премьеру качаловцы сыграли в конце 1972 года, практически в одно время с ермоловцами). Как ни хотелось бы автору увидеть на сцене и своего первенца «Сквозь поражение», по существу, можно понять и главного режиссера, которому помимо личных обещаний нужно выполнять определенные идеологические обязательства перед вышестоящими органами. Министерство культуры в тот год требовало от театров не просто премьер, а особых репертуарных откликов на важнейшую политическую дату – в конце 1972 года страна праздновала пятидесятилетие образования СССР! Пьеса татарина Диаса Валеева (пусть даже «не о КамАЗе») подходила как нельзя лучше. Это вам не вампиловский «Старший сын», где двое подвыпивших парней опоздали на электричку и забрались погреться в чужой дом. Валеев годился для того, чтобы отрапортовать. И вполне позволял особо не зарапортоваться, поскольку «Дарю тебе жизнь» явно не относилась к разряду «датских» пьес (написанных к определенной дате), а несла в себе определенный заряд новизны, таланта, мысли. Вот почему Владимир Андреев сразу взялся ставить «Продолжение». Уже в мае 1972 года и директор ермоловского театра, и главный режиссер в интервью газете ЦК КПСС «Советская культура» заявляют официально, что к 50-летию образования Союза ССР они готовят премьеру «о строителях КамАЗа». Важно было застолбить и саму тему, и конкретную пьесу, на которую положил глаз театр имени Станиславского. Параллельно очередной режиссер Геннадий Косюков все же репетировал так и не разрешенную театру комедию Александра Вампилова «Старший сын». Распределить постановки наоборот не получилось бы – в цэковских кабинетах главного режиссера бы не поняли. Да и самому Владимиру Андрееву в «Дарю тебе жизнь» (новое название «Продолжения») светила главная роль, вполне созвучная с его гражданским темпераментом и актерским амплуа. Конечно, он играл секретаря горкома Саттарова – смелого, обреченного, непрямолинейного. Во многом именно его исполнение определило зрительский успех спектакля, который закрепился в репертуаре Московского театра имени М.Н. Ермоловой на целых десять лет. Остается факт, который историки театра как-то упустили: дебюты на московской сцене казанского и иркутского драматургов состоялись практически одновременно. Они вошли в ворота «театральной Мекки», и взошли на театральный отечественный Олимп вместе – Александр Вампилов и Диас Валеев. Два инородца, покорившие Москву. На это у Вампилова ушла вся жизнь, Валееву же столичный успех достался даже легче, чем признание на родине, в Казани. Однако летом 1972 года была уже не гонка двух «ва» – кого поставят раньше, поскольку раньше… погиб Вампилов. Смерть, как это всегда бывает, сразу сняла все вопросы по поводу разрешения «Старшего сына» к постановке. Кстати, и Закшевера к тому времени с работы сняли. Выйдя из летних отпусков, ермоловцы узнали о гибели Александра Вампилова. Он утонул в Байкале 18 августа, накануне своего 35-летия. Диас Валеев хорошо помнит тот момент, поскольку тогда находился в Москве и присутствовал на андреевских репетициях. Эта страшная весть, увы, сняла сам вопрос о творческом соревновании между Вампиловым и Валеевым на ермоловской сцене. Кто лучше, кто быстрее, кто для театра (и главрежа) главней? Теперь все эти вопросы теряли смысл. Александр Валентинович навсегда остался Саней Вампиловым, ему никогда уже не стукнет тридцати пяти… Диасу Назиховичу, слава Аллаху, уже вдвое больше. Успех спектакля «Дарю тебе жизнь» в ермоловском театре открыл дорогу пьесе для новых постановок. Десятки театров по всей стране кинулись ее ставить. Ее поставили даже на сцене Иркутского театра драмы имени Н.Н. Охлопкова, где еще не ставили вампиловских пьес! О Диасе Валееве начали упоминать в центральной прессе, появились первые рецензии, в целом благожелательные. К нему пришла всесоюзная известность. Сразу изменилась и жизнь самого драматурга. Первые же денежные переводы из ВААПа показали, что на отчисления с кассовых сборов можно содержать семью. Появилась возможность оставить службу в газете и целиком посвятить себя литературному труду. Сбылась и другая мечта – теперь ему хватало средств много ездить по стране. Со вступлением в Союз писателей СССР для него открылась дверь Высших литературных курсов при Литинституте имени А.М. Горького, которые недавно заканчивал Вампилов. Два года в Москве можно было посвятить укреплению собственных позиций, обзавестись нужными связями и знакомствами. Впрочем, сегодня Диас Валеев вспоминает годы учебы на ВЛК без особых восторгов. По большом счету, считает он, Высшие литературные курсы ничего ему не дали. Приходилось разрываться между Казанью, где оставалась жена с дочками, и Москвой, в которой он обзавелся множеством знакомых в литературных кругах, но так и не нашел своего близкого круга. Не вылились в новые премьеры его контакты с театром имени Станиславского, с Малой Бронной. Продолжение «производственной трилогии» шло тяжело. Руководитель творческого семинара драматургии Виктор Сергеевич Розов на занятиях со слушателями ВЛК появлялся нечасто, как всегда, его заменяла остроумная и тонкая Инна Люциановна Вишневская. Известный театровед и плодовитый критик, она валеевские пьесы хвалила, писала о них. Все же два года, проведенные в столице, не могли не сказаться на облике драматурга. Диас Валеев обжился с положением известного писателя, научился носить хорошие костюмы и галстуки. Тогда еще не вошло в обиход слово «имидж», однако и тогда понимали значение внешнего вида. Это в пятидесятые Васе Шукшину можно было приехать в столицу и поступать во ВГИК в гимнастерке и кирзачах, сразу после войны такое было не в диковинку – в семидесятых столица, да и вся страна уже достаточно обуржуазились. Во всяком случае, когда я впервые увидел Диаса Назиховича Валеева, то увидел прежде всего вполне респектабельного, «упакованного» по полной программе, успешного человека. Он пережил огонь и воду (сгоревший сарай и подтопление на даче, уничтожившие все его ранние рукописи), пережил и «медные трубы». Его включали в состав многих писательских конференций, выездных совещаний, где довелось общаться с многими знаменитыми писателями из разных союзных республик. Его приглашали на писательские съезды и семинары, ему давали слово на заседаниях. Одним словом, внешне это была наивысшая точка в писательской судьбе Диаса Валеева. В этой связи забавным выглядит факт появления в центральной республиканской газете заметки видного композитора тех лет: «Вдохновленные решениями XXV съезда КПСС, композиторы нашей республики с большим энтузиазмом и творческим подъемом работают над крупными музыкальными сочинениями о своих современниках. Так, Ф. Ахмеров и А. Миргородский создают сейчас новые симфонические произведения, Р. Яхин и Б. Мулюков обещают порадовать слушателей вокальными циклами, посвященными людям труда. Я работаю сейчас над оперой о строителях по пьесе драматурга Д. Валеева «Дарю тебе жизнь». Меня привлекла в ней значительность темы, сильный, не боящийся самопожертвования характер главного героя Саттарова – парторга строительства. В работе над оперой я стараюсь сохранить все особенности либретто, для которого характерны оригинальность драматургии, многоплановость, высокая степень обобщения. Работа эта доставляет мне большую радость, потому что здесь на непростом языке современной оперы ведется рассказ о предметах вечных, непреходящих: о жизни и смерти, о долге, о любви, о радостях и горестях человеческих. И для меня, и для моих коллег-композиторов огромным стимулом в работе являются творческие встречи на заводах, в колхозах, в студенческих аудиториях, на ближних и дальних стройках коммунизма. Высокая оценка деятельности творческой интеллигенции на XXV съезде КПСС обязывает нас, композиторов, создавать значительные, зрелые произведения, достойно отражающие наше грандиозное время и подвиг народа – творца, строителя коммунистического общества». Постановка оперы «Дарю тебе жизнь» на сцене Татарского театра оперы и балеты имени М. Джалиля стала бы апофеозом известности для Диаса Валеева! Слава Аллаху, такой постановки не случилось (композитор оперу не дописала). То, что девушка Алсу в пьесе поет про жеребеночка, куда ни шло, а представьте поющим секретаря горкома Саттарова, доказывающим в главной арии необходимость освоения свайных фундаментов инженера Сатынского… Жуть! Впрочем, никогда не любил оперу, поэтому занимаюсь историей драматического театра. Конечно, и у Диаса Валеева не все тогда гладко складывалось. Поменялось к нему отношение в Казани. Еще совсем недавно он здесь был «начинающим драматургом» – и вдруг центральная пресса чуть ли не каждый месяц упоминает его имя в «поминальниках» среди одаренных молодых писателей, талантливых представителей новой драматургии союзных и автономных республик, более того, в списках самых часто ставящихся на советской сцене авторов. Разумеется, не всем это в Татарстане могло нравиться. Тем более, сам Диас Валеев вел себя не самым дипломатичным образом. Он торопил местные театры с новыми постановками, не понимая, почему его имя в премьерные афиши ставить каждый сезон никто не торопится. «Сквозь поражение» в камаловском театре сначала долго переводили на татарский язык, затем режиссер долго подбирал актеров. Наконец, с первого раза постановку не приняли, потребовав целого ряда переделок…
II.5
А тем временем по всей стране набирало обороты триумфальное посмертное шествие драматургии Александра Вампилова. При этом, отдельным сборником еще не изданная, ВААПом не растиражированная, официальной советской печатью не распропагандированная, она читалась большей частью в машинописных вариантах, что добавляло ей, как это всегда бывало, больше привлекательности и притягательности. Я помню свое первое впечатление от пьес Александра Вампилова. В 1974 году режиссер Феликс Григорьян открыл для Казани это имя, поставив в тюзе первую его комедию «Прощание в июне». Спектакль сразу стал культовым в студенческой среде, поскольку сопровождался очень популярными песенками и приколами, восходящими к СТЭМовским (студенческих театров эстрадной миниатюры) и КВНовским традициям. Лейтмотивом спектакля были дворовые куплеты «По улице ходила большая крокодила, она, она зеленая была», которые варьировались по ходу действия в разных музыкальных тональностях. На спектакль рвалась молодежь, о нем рассказывали друг другу и много лет спустя, когда Григорьян уехал из Казани. Спектакль поспешили снять под предлогом капитального ремонта здания, делавшегося к сорокалетию театра. В том же Казанском тюзе следом вышла и следующая пьеса Вампилова – комедию «Старший сын» поставил следующий главный режиссер театра Леонид Верзуб, правда, в более ранней редакции, сохранившей старое название комедии – «Свидание в предместье». Хорошо помню этот грустный лиричный спектакль, впрочем, как теперь мне кажется, был в той давней постановке диссонанс между остротой комедии положений, заданной драматургом, и приглушенной тональностью режиссерского рисунка. Разумеется, в свои восемнадцать, я не мог сформулировать, но чувствовал, что между григорьяновским «Прощанием в июне» и верзубовским «Свиданием в предместье» лежит если не пропасть, то вполне ощущаемая трещина. Эти первые мои впечатления от соприкосновения с творчеством Вампилова перекрыл дипломный спектакль Казанского театрального училища 1976 года – «Утиная охота» в постановке главного режиссера качаловского театра Владимира Портнова. Пьесу в то время все почему-то упорно считали у нас запрещенной. Хотя она и была напечатана в журнале «Ангара», а посему не могла быть под цензурным запретом. Зато было известно, что ее не давали ставить ни Юрию Любимову на Таганке, ни Олегу Ефремову во МХАТе. Репетиции «Охоты» шли в училище чуть ли не тайно, никого из студентов младших курсов, против обыкновения, на них не пускали. С Володей Тогулевым мы играли в училищном вокально-инструментальном ансамбле, он-то и дал мне экземпляр всего на одну ночь – и то под большим-большим секретом. Слеповатая машинописная рукопись вызвала во мне восторг. И он нарастал от страницы к странице. Помню, ближе к концу я даже закрыл папку. Не мог читать от волнения. Очень не хотел, чтобы это чудо сейчас закончилось. Даже боязнь была, вдруг автор в финале не выдержит взятой высоты, вывернет на привычное «совковое» моралите? Меня просто раздавила, потрясла та глыба правды, жизненности, которой я не встречал до этого ни в одной современной пьесе. Признаться, я и от классики тогда был не в восторге (молодым свойственны треплевские поиски «новых форм»), поскольку сам уже пробовал пописывать что-то эдакое, постмодерновое. Первое впечатление – я увидел в Зилове нового героя. Героя н а ш е г о времени. Говорящего на нашем языке. Весь зиловский душевный раздрай для меня нарисовался гораздо позднее, осознался и сложился в голове уже в литинститутские годы, а тогда второкурсник провинциального театрального училища скорее сердцем ощутил, чем умом дотумкал, что стал свидетелем выдающегося явления Героя. Поскольку официально драматургия Вампилова как бы и не существовала, в центральной прессе о ней практически не упоминалось, то он решил, будто это один такой умный, раз считает своего тезку гением. Конечно, я был тогда молод и глуп. Но кое-что уже видел и понимал. Так совпало, что именно в то же время я прочел валеевские «Диалоги», которые ставил в камаловском театре очередной режиссер Ришат Хазиахметов – педагог по мастерству актера на нашем театральном курсе. И помню, как не прозвучала для меня тогда эта пьеса. Тогда я еще не знал, что судьба сведет меня так близко с Диасом Назиховичем Валеевым, что я назову его своим учителем.
II.6
Тут хочется сделать вынужденное, пусть даже слишком длинное отступление. Я считаю себя счастливчиком, потому что мне всегда везло на учителей. Первое мое необычайное везение случилось в Казанском театральном училище. Помню, когда нас, первокурсников, только что прошедших обязательное посвящение месячной уборкой картошки в Матюшино на другом берегу Волги, стали знакомить с преподавателями по мастерству актера, мы узнали, что наш большой курс разобьют на две подгруппы. Одних записали к молодому режиссеру камаловского театра Ришату Нуриахметовичу Хазиахметову, других к ведущему актеру качаловского театра Вадиму Григорьевичу Остропольскому. По списку я оказался в группе «Хазы», как мы его за глаза окрестили. На мое счастье в первой группе парней оказалось больше, чем во второй. Директор училища Арнольд Львович Шапиро предложил кому-то добровольно перейти во вторую – и я не задумываясь поднял руку, не подозревая даже, что рукой моей водит Судьба! Я ведь не знал, кто из двух педагогов окажется лучше, да и не думал об этом. Просто Остропольского я видел на качаловской сцене в «Фоме Гордееве» и, как актер, он мне сразу понравился. А главное – в первую группу записали девочку, в которую я на картошке по уши влюбился… Впрочем, мне и после всегда везло с выбором, точнее, удавалось неосознанно поворачивать колесо своей судьбы в нужную сторону. Так слепой случай свел меня однажды с Юрием Алексеевичем Благовым, в то время завлитом тюза, который пришел к нам на курс набирать массовку для театрализованного пролога в большом правительственном концерте к Седьмому ноября. Мой сосед по съемной квартире Андрюша Курнавин после первой же благовской репетиции неожиданно попрощался с Юрием Алексеевичем, как со старым знакомым. Я спросил, откуда тот его знает. Оказалось, что Дрюля наш занимался у Благова в драмкружке в своем Сосновом Бору Ленинградской области. К нему и приехал в Казань, когда решил поступать в театральное училище. Я чуть не убил Курнавина, когда узнал, что тот, имея в тюзе такого знакомого, до сих пор молчал! После следующей репетиции заставил его подойти к Благову и представить меня. И уже сам спросил, нельзя ли нам ходить в театр на репетиции, спектакли. Юрий Алексеевич пригласил нас к себе в гости на праздники. Дрюля снова стал артачиться – но я опять силом потащил его в холодный вечер Великого Октября через всю Казань на улицу Короленко. Дома Благов рассказал о своей вечерней студии при театре, где он с молодыми актерами занимается по методике Ежи Гротовского. Предложил участвовать в занятиях своей экспериментальной лаборатории. Само собой, я тут же согласился, причем и Дрюлю заставил ходить на занятия, и Саню Яшкина притащил с собой. Два лучших моих друга долго ныли, им не хотелось после дня занятий в училище да еще вечернего спектакля в театре оставаться на занятия, где Благов мучил нас малопонятными «состояниями», йоговскими разминками и пластическими этюдами-импровизациями на ту или иную музыкальную композицию. Тем более, Яшкин жил в за городом, (полчаса на электричке, прямо как в «Старшем сыне»!), где по иронии судьбы я сам сейчас живу и пишу эти ностальгические строки. Воронин был непреклонен. Тогда я руководил училищным вокально-инструментальным ансамблем, где учил Яшкина с Курнавиным играть на ударных и гитаре, поэтому они не посмели перечить. Надо сказать, что уже через месяц оба были благодарны – мой план внедрения в театр «через черный ход» очень скоро обернулся для нас подарком, которого мы не ждали. Юрий Алексеевич стал сорежиссером спектакля «Принц и нищий», постановщик спектакля и главный режиссер Леонид Верзуб предложил Благову набрать в театр детскую студию, чтобы обеспечить массовку для лондонских трущоб. Благов взял нас всех троих заводилами дворовой черни. По пьесе моя роль так и значилась – Заводила, моего подручного Шустрилу играл сначала Андрей Курнавин, а когда его отчислили из училища, роль перешла к Сане Яшкину. Премьера спектакля состоялась 5 марта 1977 года – мой дебют на профессиональной сцене. Так случилось, что еще трижды эта дата становилась для меня началом нового периода в жизни. В 1983 году в этот день у меня родился первенец Никита, а в 1987-м я дебютировал на сцене Казанского тюза уже в качестве драматурга – Семен Перель поставил мою пьесу «Четыре вечера и одно утро». В прошлом году в тот же пятый день весны, ровно через тридцать лет после актерского дебюта, я впервые обзавелся собственным домом, то есть «дебютировал» в качестве владельца какой-никакой недвижимости. Возможно, судьба еще не раз припасет мне подарок на этот день – 5 марта? Вот так со второго курса я стал играть на профессиональной сцене. В нашем театральном училище ни до ни после нас таких примеров не было. Впрочем, нас и не ставили в пример, наоборот, руководитель курса Остропольский поначалу очень раздражался, когда мы с Яшкиным просили отпустить нас с мастерства пораньше. А однажды выдвинул ультиматум, что снимет нас со всех ролей в дипломных спектаклях, если мы не перестанем бегать в тюз. Мы все равно ушли в тот день на спектакль. А однокрсники объяснили Вадиму Григорьевичу, что с тезкой в тюзе нас ввели уже чуть не в половину репертуара. На следующем занятии народный артист ТАССР не посчитал зазорным публично принести нам, соплякам, извинения. Остропольский обстоятельно расспросил, что мы играем, какие у нас отношения с главрежем тюза. А про Юрия Алексеевича Благова неожиданно отозвался: «Интеллигентнейший человек, каких сейчас в Казани не осталось!», – и к его занятиям «аля-Гротовский» отнесся очень одобрительно. Одним словом, Мастер нас благословил, подчеркнув, отныне стоит нам во время репетиции молча показать на часы – и мы сразу свободны. С тех пор мы уходили на спектакли без всяких заминок. Вадим Григорьевич был педагогом от Бога. Уже на первом курсе он заявил категорически: научить актерству невозможно, можно лишь обучиться некоторым сценическим, чисто техническим приемам. Все остальное обучение, по Остропольскому, начинается и заканчивается формированием художественного вкуса. А покуда мы дети, дикари и дилетанты, он будет диктовать «что такое хорошо и что такое плохо». Мы обязаны были читать те книги, смотреть те фильмы, которые нам укажет мастер. Если он сказал, что это произведение хорошее, то у студентов не может быть другого мнения. Помню, однажды наш Альберт Сафин попытался спорить, дескать, фильм Андрея Тарковского «Зеркало» ему показался не интересным… Тут поднялась буря! Вадим Григорьевич безаппеляционно прервал его, заявив, что если нам что-то не понравилось из того, что он нам задал, значит, мы не доросли, следовательно, надо пойти посмотреть еще раз. И если снова чего-то не понял, то… смотри пункт первый. Я так и сделал. Посмотрел «Зеркало» три раза подряд. И понял, что еще не дорос, что мне не хватает должного уровня развития. И честно признался себе и мастеру – многого не понял, но околдован этим фильмом. А тут состоялся закрытый показ «Андрея Рублева». На центральном кинотеатре города даже афиши не повесили, тем не менее, молва разнеслась по Казани как молния, сразу достигла стен училища. Вадим Григорьевич даже мастерство по такому случаю отменил, а наш староста Саша Цимблер каким-то чудом достал билеты (впрочем, достать что угодно тот всегда умел, не случайно Роман Виктюк взял его заместителем директора, когда в Москве ему наконец дали открыть свой театр). Когда после фильма я вышел на улицу, то испугался… троллейбуса. Такого потрясения от искусства я в жизни еще не испытывал, и настолько перенесся в пятнадцатый век, в воссозданный Тарковским старый мир, что привычная картинка зимней Казани, вечерней улицы Баумана мне показалась видом другой планеты. Вторым таким потрясением стала для меня «Утиная охота» в постановке Владимира Портнова. Я шел на спектакль с опаской – как бы выпускники не попортили того необыкновенного впечатления от пьесы, с которым я жил целых два месяца. Как водится, училищные дипломные спектакли носят ученический характер и редко становятся театральными открытиями. Это в Москве дипломная постановка Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана» обернулась созданием Театра на Таганке. А в провинции вряд ли кто-нибудь такого ждет… Но вот спектакль начался – и я снова пропал без остатка. Весь спектакль Володя Кудрявцев играл Зилова… в трусах. Как поднялся утром с бодуна, так и прошел все свои воспоминания, одевая для той или иной сцены рубашку, галстук, пиджак или свитер, но не успевая натянуть брюки. Этот абсурд мог показаться комическим, вызывающим, эпатажным, но оказался очень точным по сути. Красные спортивные трусы скоро переставали раздражать зрителей, увлеченных действием, с другой стороны, они не давали забыть, что все происходящее – это лишь воспоминания Зилова, его похмельная интерпретация событий, персонажей, обстоятельств… Трехактную драму студенты играли в два действия, сделав перерыв после сцены, когда Виктор с женой вспоминают молодость. Тот так и не смог вспомнить, что же тогда сказал в первое, самое важное свидание. Ирина разрыдалась («ты все забыл»). Очень эффектная эмоциональная точка перед антрактом. Под страхом изгнания в театральном училище запрещалось пить и курить (бедный Дрюля!), и я убежал за угол, чтобы не дымитьу ворот с сокурсниками, чтобы не глумились над моим потрясением (дрожали руки, слезы на глазах). «Утиная охота» в постановке Владимира Портнова показалась мне тогда лучшим спектаклем, который я когда-либо видел. А Зилов в исполнении Владимира Кудрявцева и сегодня кажется мне более точным попаданием в образ, чем у Владимира Андреева в ермоловском театре, Олега Ефремова во МХАТе и даже у Олега Даля в фильме «Отпуск в сентябре».
II.7
Примерно в те же дни мне впервые попалась на глаза пьеса Диаса Валеева «Диалоги», выпущенная ротапринтным способом в типографии ВААП (Всесоюзного агентства по авторским правам) тиражом в сто экземпляров для распространения по театрам страны. Главный герой Громких – директор гигантского комплекса строящихся заводов принимает в своем кабинете иностранца Клеммера. О чем-то говорят, о каких-то контрактах. Потом с главным инженером Жигановым за чашкой чая Громких говорит о том, что никто не хочет брать на себя ответственность. Потом выпроваживает из кабинета рядового инженера Ахметова, который полгода рвется к нему на прием, чтобы обсудить свою докладную записку – читателям пока неизвестно, о чем именно. Если вчитываться в текст или вслушиваться в речи персонажей со сцены, то минут через десять можно начать догадываться, о чем они вообще разговаривают. Вот только станет ли молодой нетерпеливый студент театрального училища вчитываться и вслушиваться? Я честно пытался. Потому что в те годы положил себе за правило прочитывать по пьесе в день – и в конце концов, понять как это делается. На тот момент я начитался производственных пьес и насмотрелся фильмов, показывающих жизнь советского человека в трудовом коллективе. Все это мне было совершенно неинтересно. Диалоги шли о том, что автомобиль, который начнут выпускать через год или два на заводе, к тому времени морально устареет и станет неконкурентоспособен на мировом рынке. В конце концов, директор Громких понимает, что с этим положением мириться нельзя, надо что-то делать, брать на себя ответственность. И если не получится сделать лучше автомобиль, который здесь будут когда-нибудь выпускать, то он попробует откопать хотя бы десяток труб, которые завалили в траншее. Драматическое действие на фоне диалогов начинает проглядываться только где-то к середине пьесы, когда мы узнаем, что инженер Ахметов, которому Громких указал на дверь, попал в психиатрическую больницу. В директорском кабинете разъяснили, что его нет, а есть только место, функция, должность. И человек забыл свое имя, потерял себя… В финале Громких снова встречается с инженером Ахметовым и пытается объяснить, что ошибался, когда так нетактично выпроводил его из своего служебного кабинета. Я даже готов был представить в том автомобиле (грузовом или легковом, для автора неважно, все равно его еще не выпускают) некий символ нашего государства, которое в семидесятых годах тоже нуждалось в обновлении. Но театр, сцена, пьеса должны, помимо умных и правильных мыслей, давать эмоциональное сопереживание, иначе читателю и зрителю просто скучно вникать в «глубину всех наших глубин». А создателю «Диалогов» не важно даже, победит Громких на совещании в Совмине или им «вставят клизму». Главное для автора, что его герой в результате долгих разговоров все же решил взять на себя ответственность за большое дело. Решил пойти поперек потока. В этом стержень пьесы. Вот только почему создатели «производственных пьес» решили, что масштаб происходящих за сценой свершений должен увлечь зрителей своей грандиозностью? Во всяком случае, тридцать лет назад, читая «Диалоги», я совершенно не завелся эмоционально. И закрыл ротапринтный экземпляр с «чувством глубокого удовлетворения», какое испытывал обычно, когда заканчивалась программа «Время». Знакомство с творчеством Валеева для меня тогда прошло совершенно незамеченным и не оставило в душе никакого эмоционального следа. Там по-прежнему самыми глубокими зарубками оставались Тарковский и Вампилов. Перечитывая «Диалоги» тридцать лет спустя, разумеется, я открыл в ней для себя куда больше мыслей и чувств. Вторая часть трилогии «не о КамАЗе» достаточно лаконична и композиционно выдержана. В первой сцене станем свидетелями сразу трех диалогов генерального директора Громких. Сначала с ним беседуют главный инженер Жиганов, потом американский бизнесмен Клеммер – поставщик оборудования. Потом инженер Ахматов: полгода назад он подал на имя директора докладную, что автомобили, которые должен выпускать завод, уже сейчас морально устарели. Громких выгоняет его из кабинета, тот начинает заговариваться. «Меня нет? Есть только место? Может, и вас тоже нет?». Во второй сцене Громких беседует с незнакомым стариком, который рассказал, что кто-то приказал закопать в их дворе зачем-то вырытую давно траншею, чтобы не мозолила глаза начальству. Он готов идти искать хозяина тех труб, десяти плетей, которые остались на дне траншеи. И тут Громках, сподвигнутый примером старика, готового бороться с чужой бесхозяйственностью, решает биться за новую модель автомобиля. В третьей сцене директор ужинает в ресторане с Гусятниковым – чиновником из Москвы, представителем госкомитета. Тот отказался поддержать Громких в пересмотре модели автомобиля. В четвертой, наконец, в отделение милиции привели Ахматова, который три дня ходил неизвестно где, забыв и свое имя, и свой домашний адрес. Подполковник показывает его фотографию, но тот себя не узнает. Приезжает и психиатр Цитрин, долго уговаривает больного пройти обследование у них в стационаре. При этом приводит интересные доводы: раньше Ахматов не пил и не курил, однако сейчас от сигареты не отказался и даже выпить у милиции попросил (лейтенант сходил к дежурному, но и у того спиртного не оказалось). Вместо бесед началось какое-то движение. В пятой сцене Громких снова принимает московского чиновника, теперь у себя на кухне. Жарит яишницу для Кухаренко – своего куратора из министерства, который год назад предложил его на должность директора автозаводского комплекса. И снова – диалоги. Точнее, жаркий спор. «Главный тормоз общественного прогресса сейчас – это маленькая человеческая душа. Маленькая несвободная, незаинтересованная душа», – говорит Громких. К у х а р е н к о. Ты мой человек. Я тебя сюда рекомендовал. Я за тебя и отвечаю! И по-дружески тебе советую свои взгляды, даже передо мной не афишировать. Ты не мальчик, знаешь… Каждый мир – это свой способ действия, мышления, разговора. Внутри, хочешь ты этого или не хочешь, а есть характерные схемы действия, есть нормы поведения. Жизнь, милый, сложная. Недолго и партбилета лишиться. Г р о м к и х. Помимо партбилета надо иметь еще и соответствующие убеждения! И мировоззрение соответвующее! И соответствующее не посту, который занимаешь, а партбилету. К у х а р е н к о. Ты мне здесь политграмоты не читай!» В общем, покушали яичницу. В шестой сцене Громких в больничном саду диспутирует сначала с доктором («Мне кажется, сейчас перед миром стоит только одна альтернатива. А выход?.. Это главный вопрос человеческого существования!.. Там, где свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех, социальные роли, конечно же, перестанут восприниматься человеком как навязанные ему извне… Выход есть!»), а потом и больным Ахматовым («Разве дело только во мне? Вам нужно доказать и факт собственного существования»). И все это не на страницах учебника по марскизму-ленинизму, а в больничном саду говорят вполне здоровые люди. И вот снова в седьмой сцене мы видим американца Клеммера, который приглашает Громких к себе на рыбалку. Оставшись наедине с главным инженером директор снова говорит об ответственности, которую нужно брать на себя. И в заключительной сцене мы снова видим его с тем стариком, который приходил к нему на прием, да так и не смог попасть в кабинет. Но готов бороться до конца, лишь бы найти, чьи трубы зарыли. «Пойдем, – соглашается Громких. – Десять плетей труб спасти я смогу. Спасу ли остальное? Но с чего-то надо ведь начинать, старый, а? Хоть с этого потерянного добра. Ну, пойдем?» – Пойдем, – соглашается старик и занавес на этом закрывается. А я снова, теперь уже через тридцать лет, возвращаюсь к началу «Диалогов» и представляю, как это мог бы написать Вампилов (хотя тот вряд ли вообще такое сел бы писать) или любой другой драматург, исповедующий иные принципы сюжетосложения. И вдруг представилось, как рано утром заходит Громких к себе в кабинет… а там неизвестное лицо. Как Ахматов проник к нему? Посетитель пытается говорить о том, что его докладная записка застряла у главного инженера, что секретарша полгода не пускает его на прием. А у Громких сейчас переговоры с президентом американской фирмы, так что директору некогда диспутировать с рядовым инженеришкой, помощники директора выгоняют наглеца. После переговоров с Клеммером и разговора с главным инженером Жигановым, который принес ему докладную Ахматова, директор понимает, что зря выгнал человека. Он пытается его найти. Но тот пропал. Подключается милиция… И так далее по тому же сценарию. Впрочем, не моя задача переписывать уже написанное героем моего повествования – подобное не корректно, да и невозможно. Мое дело показать, как пьеса «Диалоги» воспринималась в свое время и как она видится теперь. Подобный диалог с Диасом Валеевым у нас идет не первый год. Поэтому фраза Ахматова про внутренний монолог, который никак не станет диалогом, а потому люди не слышат друг друга и не хотят понять, в общем, справедлива. Как и многое, рассказанное нам в этой пьесе. Рассказанное, как я пытался объяснить, но не показанное через хитросплетения сюжета и драматические ситуации. В споре должна рождаться истина, однако сам процесс порой, увы, интересен лишь самим спорящим, но не слушающим спор со стороны. Впрочем, это уже мысли из XXI века, а тогда, в двадцатом столетии, в самой середине семидесятых, думалось, немного по-другому. Раз это все ставят, значит, я чего-то в этой жизни не понимаю. А значит, я должен попробовать понять… И далее, смотри пункт первый. В вышедшей в 1989 году книге Евгения Золотарева «Золотое двадцатилетие» о драматургах Татарии анализу валеевской трилогии уделяется немало места: «Диалоги» – следующая пьеса цикла во многом продолжает и развивает тему предшествующей ей «Дарю тебе жизнь», составляя с ней и с последующей пьесой «Ищу человека» нечто общее и единое по своей идейной направленности и характеру материала. Пьеса очень точно названа автором – она в основном состоит из диалогов генерального директора строящегося колоссальной важности и значения промышленного комплекса Александра Громких с разного рода лицами, встречавшимися на его пути, но примерно по одному и тому же кругу вопросов этического порядка. Подобно знаменитым «Диалогам» древнегреческого философа Платона, через сопоставление различных точек зрения люди ищут пути к раскрытию истины. Диалог Громких с Кухаренко – кульминационный момент драмы – поднимает много весьма серьезных проблем нашего бытия. Написан он умно и интересно, но довольно трудно для быстрого, легкого восприятия. Разбираясь в кажущихся иногда излишними сложностях драматургии Д. Валеева, некоторые работники театров порой заявляют, что это тот вид драматургии, который немцы называют Lesedrame, то есть драма для чтения, лишенная самого важного для искусства театра – действенности. Но в том-то и дело, что разговоры, кажущиеся им отвлеченно-философскими, на самом деле несут в себе сильное конфликтное начало, слово здесь действует как поступок и контрпоступок. Это и есть то, что принято называть «словесным действием». Слово становится подлинным орудием борьбы».
II.8
Поставил «Диалоги» не только Владимир Андреев в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. Она прошла по стране, правда, не так широко, как первая пьеса трилогии Диаса Валеева. Кроме Москвы и Казани, «Диалоги» вышли в Белгороде и Новосибирске, Новгороде и Саратове. И я помню тот уникальный случай, когда ермоловцы летом в 1978 года привезли в Казань сразу два своих спектакля по пьесам Диаса Валеева. Для многих казанцев были еще свежи воспоминания о спектакле качаловцев «Продолжение», в камаловском театре еще шли «Диалоги». Поэтому у местных критиков появилась униальная возможность сравнить две пары спектаклей и поговорить о творчестве казанского драматурга, всесоюзная известность которого лишний раз теми гастролями подтверждалась. Такие сравнения были лестными. Во второй том личных документов «Портрет одного художника. Из архива писателя» вклеена черно-белая фотография: Владимир Андреев стоит на сцене Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля (гастроли проходили сразу на двух площадках) во время поклонов и держит за руку драматурга Диаса Валеева. Оба молоды, красивы, счастливы. Знаменитого режиссера и казанского драматурга обступают журналисты, берут интервью. Выходят рецензии в газетах, где высказываются пожелания дальнейших творческих успехов московско-казанскому тандему. В общем, триумф налицо. По итогам гастролей народному артисту РСФСР Владимиру Андрееву руководство республики присуждает почетное звание «Народный артист Татарской АССР». Между тем, за кулисами происходит скрытое от прессы брожение. Гастроли продолжились после Казани в Набережных Челнах. И там с гастрольной афиши исчезли по непонятным причинам «Диалоги». Да и к пьесе «Дарю тебе жизнь», родившейся на строительстве КамАЗа, сами строители отнеслись без энтузиазма. Впрочем, в те годы автозаводцы были настолько избалованы вниманием к себе столичных звезд, что даже гастроли знаменитого Театра на Таганке (никуда за пределы Садового кольца покуда не выезжавшего) по существу провалились – ряд спектаклей пришлось заменить концертами Владимира Высоцкого. На Центральном телевидении спектакль ермоловцев готовили к эфиру еще 9 января 1979 года, и даже анонсировали в телепрограмме на всю страну, однако показ в последний момент запретил заместитель председателя Гостелерадио СССР Э. Мамедов. Запись продержали на полке до сентября. Кому же валеевские диалоги показались слишком острыми? Можем предположить, что не один подполковник Гатауллин смотрел спектакли нашего героя слишком внимательно. При желании в его пьесах можно было нарыть немало подтверждений, что автор исподволь «копает яму под советский строй». Закопали окончательно ермоловский спектакль две высокопоставленные дамы из ВЦСПС, пришедшие смотреть «Диалоги» в день очередной годовщины Великого Октября, 7 ноября 1979 года. А после учинили в кабинете главного режиссера дикий скандал, причем шили исключительно политические обвинения. На следующий день, несмотря на красный день календаря, в театр стали звонить из более серьезных кабинетов, куда профсоюзные дамочки успели настучать. Владимир Андреев, казалось бы, известная личность, борец по натуре, был настолько в шоке, что больше не решился включать «Диалоги» в репертуар. Хотя спектакль формально никто не запрещал. Можно представить, каким ударом это стало для автора. Вообще год 1979-й для Диаса Валеева выдался горьким. Спектакль Празата Исанбета «Сквозь поражение», снятый в камаловском театре три года назад, все же вышел под другим названием «Если предашь самого себя». Но в день долгожданной премьеры 21 марта скоропостижно скончался от инфаркта старший брат Радик. Ему было всего сорок пять. Постановку долго правили, и судя по рецензии кандидата искусствоведения Ильтани Иляловой, это не пошло ей на пользу. «Изменения в тексте пьесы, большая часть купюр коснулись образа Лукмана Самматова, который в первой редакции спектакля был главной фигурой. Теперь же, отойдя на второй план, этот образ несколько утратил логику характера, исчезла последовательность в его поступках. Поэтому как-то повисают в воздухе и не очень понятны две значительные сцены, происходящие на даче… Именно Лукман опустошил души двух своих приемных сыновей – Салиха и Гаяза» («Вечерняя Казань», 30.03.1979). Спектакль не шел так часто, как хотелось бы автору, и вскоре тоже сошел с проката. И среди причин, которые тому способствовали, можно найти и такие, на которые указал переводчик пьесы, народный писатель Татарии Аяз Гилязов в письме от 17 августа 1980 года: «Диас! Я прочел твой новый вариант пьесы «Сквозь поражение». Раз есть новый вариант оригинала, нужен и новый перевод на татарском языке. Я сделал почи все, на что ты указал. Но, повторяю, ты этими «заплатами» не спасешься. Во-первых, с того перевода, который я сделал, остались рожки-да-ножки. Кто-то усердно перечеркнул многое, что я сделал. Кажется, эту услугу тебе сделали и твои актеры, и режиссер, и твоя супруга. Перевод изменился в худшую сторону. Текст твой сейчас на татарском языке звучит чудовищно. Безграмотно. Глупо. Местами кальки, местами совершенно незнание татарского языка. Да и ты не указал на все изменения в тексте. Здесь нужна большая и кропотливая работа. Но уже я этой работой не займусь. Хватит. По горло. При твоей прыти надо иметь домашнего, собственного переводчика. Пока перевод состоит из отдельных, слабо прикрепленных кусков. P.S. Конец не изменил, все надо делать заново». Как можно понять из предыдущих писем Аяза Гилязова, работа над переводом и переделками шла достаточно долго и сложно. Диас Валеев не раз возвращался к тексту десять лет не выходившей пьесы. Возможно, в русском оригинале «Сквозь поражение», вышедшее в свет в ВААПе лишь в 1984 году, стало совершеннее. Однако на спектакль, шедший в переводе, подобные «улучшения» могли сказаться не самым лучшим образом. Как и на отношения героя нашего повествования с классиком татарской литературы.
II.9
А сейчас хотелось бы перейти к третьей части драматической трилогии Диаса Валеева. Если между написанием первых двух прошло четыре года, то последняя часть написалась только через восемь лет. Причин такой задержки несколько, остановлюсь лишь на трех самых очевидных. И первая среди них – автору просто не писалось! С одной стороны, Валеев увлекся исторической драматургией. И даже всерьез подумывал оставить совсем «производственную тему». В продолжительной паузе, возникшей между первыми черновыми набросками последней части и написанием (в каких-то три недели!) окончательного варианта пьесы «Ищу человека», драматург написал две исторические трагедии или трагедийные хроники – «1887» и «День Икс». Оба названия не первые и, на мой взгляд, не выражающие точно их содержания. Пьесу о студенческой сходке в Императорском Казанском университете в 1887 году в первоначальном варианте автор назвал ленинской цитатой «Божество у всех одно – свобода!», а хронику последних дней жизни Мусы Джалиля в фашистской Германии Диас Валеев издал в одном из своих сборников под безликим, скорее всего вставленным издательством заголовком «Поэт и война». Другая причина затянувшегося завершения производственной трилогии заключается в поисках жанра. «Производственная драма» быстро изжила себя. Активно насаждаемая сверху, она захлебнулась снизу в мутном потоке халтур, или «болтов в томате» как это в те годы зубоскалы называли партийную заказнуху. Драматурга Диаса Валеева сложно обвинить в «конъюктивите», свою трилогию «не о КамАЗе» он писал не ради производственно-строительных вопросов, послуживших ей в качестве декораций. Как мы уже сказали, его интересовал человек второй ипостаси, личность в макро-среде. Наш герой поставил перед собой сложную задачу: добиться полной стилистической непохожести трех частей при неком тематическом и сюжетном единстве – и с этой задачей справился вполне. Именно третья часть внутренне объединила в единое целое две такие непохожие и неравнозначные пьесы «Дарю тебе жизнь» и «Диалоги». Если первая романтическая история показывала начало строительства заводов и нового города, а вторая драма, оформленная в некотором классическом ключе, раскрывала непростую ситуацию с запуском комплекса заводов, то третья часть «Ищу человека» начинается с празднования в честь выпуска на том построенном и запущенном заводе уже полумиллионного автомобиля. Автор теперь ведет речь о противостоянии гендиректора Жиганова и мэра города Ахмадуллиной. Именно эти персонажи связали внешне три части трилогии – с Данией Каримовной мы встречались в пьесе «Дарю тебе жизнь», а Жиганов в «Диалогах» был главным инженером. В развитии этих двух характеров можно ощутить движение реального исторического времени в трилогии. Главный инженер Жиганов привык играть вторые роли. Он с легкостью признается гендиректору Громких, дескать, мы с тобой потому и работаем долго в одной связке, что по натуре я ведомый, «вечный второй» и не претендую на главные роли. Безропотный исполнитель, как оказалось, втайне все же мечтал о королевской короне. Став гендиректором, Жиганов показал себя в третьей части. Второго секретаря горкома партии Дементьева, который в отсутствии тяжело заболевшего «хозяина» фактически стал первым лицом в городской иерархии власти, он зовет на ты, чуть ли не открыто им понукает. С мэром Ахмадуллиной в открытую меряется кулаками, мол, видала мой каков – попробуй со мной тягаться! И в заключение по-барски (или по-байски) всех зовет на природу, где все приготовлено по высшему разряду – можно догадываться, что там не только рыбалка, баня, шашлыки. Руководитель градообразующего предприятия, которое дает работу практически всему населению, строит жилье, детсады и больницы, он и ведет себя соответствующе с представителями партийной и советской власти. Дания Ахмадуллина, как и в первой части, остается сама собой. Изменилась только должность. В «Дарю тебе жизнь» Дания Каримовна была замом по быту у гендиректора строительства Байкова, а теперь является председателем горисполкомом или, как теперь принято называть (и как ее однажды кто-то назвал в «Ищу человека»), городским мэром. Она не изменилась, потому что привыкла все решать сама. И потому на важные жизненные решения у нее уходят секунды. В «Дарю тебе жизнь» Ахмадуллина не задумываясь отдала ключи от собственной квартиры оставшейся без крова, вышедшей из роддома женщине с ребенком (отца которого глиной в отвале задавило насмерть), но не дала заселить поселок из передвижных домов (вагончиков), к которому не подвели коммуникаций. В «Ищу человека» она также воюет с гендиректором и по тому же поводу: «Только пятая часть населения в городе обеспечена квартирами. Остальные живут в малосемейках, общежитиях, в вагончиках, на частных квартирах. Эту проблему за годы строительства мы так и не успели решить. Миллионы тонн отходов в год. Куда их высыпать? Речка превратилась в сточную канаву. Сосна сохнет! А министерства обивают пороги у горисполкома, требуя все новых территорий. Не пора ли уже сказать: оставьте место и человеку!» Человек всегда говорит, что думает, и только чиновник думает так, как в данный момент прикажет начальство. И говорит только то, чего от него ждут. В этом скрыта третья причина, почему Диас Валеев растянул написание триптиха на целых двенадцать лет. Новая ситуация, новый расклад сил должен был созреть в обществе. Изменилась ситуация, и вылилась в третью пьесу, которая показала, что произошло с советским обществом за последние полтора десятилетия. Люди стали жить и чувствовать себя по-другому. И это новое дыхание жизни потребовало других героев. Поэтому, наверное, Ахмадуллина только в самом начале пьесы спорит с Жигановым о том, что важнее – человек или машина, а потом громкие диалоги, характерные для второй части трилогии, уступают место другому типу драматических коллизий. Характерно, что первая часть трилогии, так и третья, как бы окольцовываются образами молоденьких девушек. Пьесу «Дарю тебе жизнь» начинает и заканчивает красавица Алсу, поющая старинную песню: «Широченное поле. Раздолье. Необъятное чистое поле. Скачет по полю жеребенок…» Впрочем, может, это она стихи сочиняет? Не это важно, главное, звучит мотив древней степи и необузданного жеребенка, извечной жизни и воли. Алсу строит новый завод, новый город и собственную жизнь, надеясь на счастье. В третьей части с первых слов мы знакомимся с Гульнарой – восемнадцатилетней эмансипэ, беременной от официанта Славика. Она – племянница гендиректора Жиганова, уже курит и попивает (четверть века назад это еще не было нормой). Циничная и отчаянная тигрица. она пытается задирать прохожего, потом приходит к нему в вагончик с троицей жлобов, которых подговорила избить человека, дерзнувшего поднести к ее лицу спичку, как древний Диоген подносил к лицу людей фонарь средь бела дня. «Ищу человека» – это не только крылатая фраза древнегреческого философа и название последней пьесы трилогии, но клич писателя Валеева. Поэтому Ахмадуллина борется против машинного мышления крупных руководителей – за приоритет человеческого. В примечании на полях трилогии Диас Валеев пишет: «Основная, быть может, даже наиболее интересная часть жизни современного человека проходит на работе. Поэтому, когда в начале семидесятых годов наметился интерес общества к так называемой производственной теме, в этом не было ничего странного. Этот интерес был вызван прямой потребностью в сильной фигуре социального героя, которую ощутили одновременно и писатели, и читатели… Размышляя о так называемой «производственной» драме 70-х годов, я склонен теперь думать, что она была необходимым подступом к драме социальной и политической 80-х годов ХХ века, все более назревавшей… Поэтому, если говорить о собственных драматургических задачах, которые я пытался решить, когда писал вторую пьесу, и которые намеревался реализовать в третьей части трилогии, то они лежали в области «доразвития» каких-то идей, мыслей и чувств, родившихся в обществе в предшествующее десятилетие. Третья пьеса могла получиться только в том случае, если бы я сумел нащупать свежий мировоззренческий конфликт между людьми, конфликт политического и даже философского звучания, и смог бы этот конфликт и этих людей увязать в одну связку с тем, что было написано в предыдущих частях трилогии. Это «доразвитие» осуществлялось долго. Восемь лет. И только летом 1984 года на моем письменном столе оказался первый серьезный черновой вариант третьей драмы «Ищу человека». Общество в эти годы все более раскалывалось, по нему бежали трещины, человек менялся. Я интуитивно схватывал близость грядущих драматических перемен». Именно этим объясняется, наверное, что «Ищу человека», связавшая ситуационно в трилогию две другие пьесы, написанные в семидесятых, довольно далеко отступает от производственных стереотипов в советской драматургии. И этим выгодно отличается от драм «Дарю тебе жизнь» и «Диалоги». Хоть и в ней слышны отголоски передовиц советских газет того периода, но отголоски эти уже немногочисленны, да и звучат лишь в самом начале пьесы.
II.10
Драма «Ищу человека» писалась одновременно с главной книгой Диаса Валеева, которая тогда называлась «Третий человек, или Небожитель», а впоследствии стала двухтомником «Уверенность в Невидимом». Поэтому в пьесе не могла не появиться эта главная тема. Точнее, появился один из центральных персонажей – философ-фотограф Иван Иванович Иванов. Это к нему пристает на улице Гульнара в самом начале пьесы, чтобы вывести из себя труса Славика. Это он поднес к ее лицу спичку вместо фонаря Диогена. Но не сказал ей, нашел в ней человека или нет. И это девочку, которая должна стать матерью, ужасно взбесило… Она привела к нему трех отморозков, готовых на все. Но Иванов не струсил перед ними, он по-прежнему улыбается и задвигает непонятные для Гульнары идеи. Правда, свою теорию о трехипостасном человеке (идею-fixe диасизма) он высказывает не так уж внятно. Три типа людей – микро-уровня, макро-состояния и мега-я в трактовке Иванова вырисовываются с разной степенью наглядности: «Первый человек из породы примыкающих. Пьют рядом водку, и такой человек будет хлестать ее. Бьют кого-то, убивают, и он здесь. Крестят лоб, встают на колени, и тут этот приспособленец всегда в числе первых… А брось такого человека в воду, через два дня у него между пальцев вырастут плавательные перепонки». Про макро-состояние человека Иван Иванович говорит менее образно: «Второй человек больше первого. Намного. Его эгоизм не только личный, но и групповой. Но этот человек тоже замкнут. Его цели и деятельность ограничены существующим уровнем экономики, культуры. Какими-то, пусть широкими, но все-таки групповыми интересами. Такой человек не справляется теперь ни с какими делами. Ни человечество, ни, допустим, страна не выживут, если будут руководствоваться его моралью и сознанием. Поэтому мир и жизнь спасет третий человек. Тот, в ком сольется и прошлое, и настоящее, и будущее. Этот человек полностью выйдет за пределы эгоизма. Ты понимаешь? Это трудно понять», – заканчивает он свою тираду о триаде. В самом деле, его не так легко понять, потому что сказано не так образно, как в случае с пресмыкающимися. Сравнений живых и понятных для человека макро- и мега-уровней в «Ищу человека» автор не приводит, а потому сбивается с человеческой речи на язык школьного учебника или пропагандистской брошюры. Кто ясно мыслит – тот ясно излагает. Простые фразы появятся позднее, в «Сокровенном от Диаса». Зато самим своим поведением и поступками Иван Иванович удачно иллюстрирует авторскую мысль. Ведь драма как жанр – это не столько слова, сколько поступки (еще точнее – их сочетание). И тут Иванов сразу нам понятен: однажды он увидел на лавочке плачущую женщину, которая всю жизнь прожила в вагончике, строя завод и после на нем работая, но так к старости и не заработавшая отдельной комнаты, и поменялся с ней жильем – перевез ее пожитки из вагончика в свою однокомнатную квартиру, а сам стал жить в поле, на месте опустевшего строительного поселка, из которого уже все вагончики повывезли… Такая метаморфоза произошла с диогеновской бочкой! В самом деле, много ли надо философу, бедному фотографу, от которого ушла жена, уставшая жить с чудиком. Кстати, и профессию своему философу Диас Валеев отыскал очень характерную – кто еще по роду своих занятий сегодня так пристально вглядывается в лица людей, ищет в них человеческое? Когда автор читал эту пьесу труппе качаловского театра, ряд актеров сделали замечание: слишком выдуманным в пьесе получился Иван Иванович Иванов. Особенно, помнится, возмущался Владимир Кудрявцев, так заразительно за десять лет до этого сыгравший свою лучшую, на мой взгляд, роль – Виктора Зилова в дипломном спектакле «Утиная охота», но так разительно изменившийся на сцене театра. Оставив в стороне его нетактичность и неубедительность доводов (тем более актера, увы, уже нет в живых – он умер в пятьдесят с небольшим от рака крови), заметим только, что с позиций Зилова философ Иванов действительно мог показаться схемой, вымыслом. Кстати, нарочитость имени персонажа не такая уж надуманная. По статистике тех лет в одной Москве проживало 90 тысяч Ивановых – и тысяча из них были Иванами Ивановичами! Что же по стране? Даже в качаловской труппе Кудрявцев, если на то пошло, играл сразу с двумя Ивановыми. Если же говорить о чудаковатости валеевского героя, то что тут горячиться и доказывать автору, будто таких чудаков-философов в жизни не бывает, когда один из них сидел прямо перед ними? «Ищу человека» в театре имени В.И. Качалова так и не поставили. И больше с той поры (тому уже больше двух десятков лет) сам драматург ни в какие местные театры пьес своих не предлагал. Да и местные режиссеры к нему больше не обращались, а нынешние варяги, думаю, даже не догадываются, что в городе проживает живой классик минувшей эпохи. Сценическая история пьесы оказалась короткой: Комсомольск-на-Амуре, Махачкала и Луганск – больше она не шла. Владимир Андреев, перебравшийся к тому времени в Малый театр, пытался было ее предложить корифеям, однако директор театра и председатель Всероссийского театрального общества Михаил Царев самодержавно рыкнул: «В моем театре этого татарина не будет!» – и все кончилось. Да и Андреев недолго там задержался, теперь он снова в театре имени М.Н. Ермоловой. Но уже без Якушкиной. И без Валеева.
II.11
Наверное, не стоит Диасу Валееву сетовать на времена, ведь своим творчеством он сам призывал к их изменению, а значит, подталкивал внутренние общественные перемены. Предчувствие перемен – вот главное, что удалось Диасу Валееву выразить в триптихе. Драматург предугадал перестройку, показал в своей драматической трилогии, как изменился советский человек всего за одно десятилетие. Ведь драма «Ищу человека» написана в темный период ППП – «пятилетки пышных похорон», когда предчувствия носились в воздухе, но открыто об изменениях курса партии говорить не смели. Любо было Евтушенко писать о прорабах перестройки, когда сверху кубанский казак дал отмашку ускорению и гласности. А когда зажимают рот и в любой проходной реплике видят скрытую идеологическую диверсию? Тут необходимо не только мужество сказать открыто, что думаешь, но и вовремя почувствовать, предугадать надвигающиеся общественные перемены. Да, время было сумасшедшее. С одной стороны, нам в Литинституте рассказывали о диссидентах и врагах народа чуть ли не открыто, но с другой – все дипломные работы студентов читал лично завкафедрой марксизма-ленинизма. Так, в моей комедии «Абитуриада» он учуял злой умысел в проходной реплике поступавшего, мол, как можно помнить все даты истории, «скажем, когда был семнадцатый съезд». Фразу потребовали убрать, и я легко ее выкинул: не потому что тоже знал, что всех участников XVII съезда ВКП(б) Сталин расстрелял, просто на действие комедии эта реплика влияла мало – я всего лишь хотел «приколоться». Тогда все мы любили позубоскалить. Не случайно на то время приходится небывалый расцвет политических анекдотов (про Путина анекдотов уже почти не рассказывали). ППП – это лишь одна из баек того времени. Популярной у нас тогда была загадка: «Что такое лафет?» Ответ звучал коротко и зло: членовоз. На лафете, как правило, возили членов Политбюро и прочих членов к месту захоронения. О какая это была эпоха! Все пять лет, пока я учился в Москве, один за другим уходили в небытие всемогущие генсеки – в 1982-м Леонид Ильич Брежнев, через год Юрий Владимирович Андропов, в 1985-м Константин Устинович Черненко. Помню траурные митинги в актовом зале литинститута – на первом была чуть ли не грозовая тишина, на втором по залу гуляли шепоточки, а на третьем уже почти открыто раздавались смешки! Помню улицу Горького, безлюдную в день третьих похорон – москвичей волновало больше то, что в центре перекрыли движение транспорта и закрыли все магазины, а не происходящее в ту историческую минуту на Красной площади. Последний генсек запомнился тем, что уже на трибуне мавзолея, зачитывая траурную речь по поводу предшественника, так астматически задыхался и запинался, что у меня, как и у миллионов соотечественников уже не оставалось сомнений – надолго такого не хватит. А больше ничем себя вечный цекист Черненко на высшем посту и не проявил. Даже андроповского выдвиженца Горбачева не смог никуда задвинуть подальше. И люди диву давались, когда программа «Время» показывала, как Горбачев вместо Черненко встречается в Лондоне с Маргарет Тетчер, с другими первыми лицами в мировой политике той эпохи. Ощущение назревавших перемен в Москве, конечно, было явственное. Но в провинции минкульты лютовали особенно остервенело, особенно в черный год Черненко. Поэтому особенно знаменательно, что именно в тот год Диас Валеев закончил драму «Ищу человека» – предтечу скорых перемен.
II.12
Иван Иваныч Иванов читает псалмы Давида: «Всякий человек есть ложь» – и тут же спорит с ним, считая, что человек – это существо, сотворенное из снов и желаний. Он есть надежда. И это он говорит девочке, которая своего отца считает холуем (тот женат на сестре гендиректора), брата – хапугой, а сама она раздумывает, делать ли ей еще один аборт или родить от официанта Славика такую же дрянь, как и они все… Вот что пишет об этом образе Евгений Золотарев в уже упоминавшейся нами книге: «Есть в последней пьесе валеевской трилогии еще один очень остро написанный, а в начале даже просто пугающий образ – это юная Гульнара, девушка из интеллигентной семьи, ее дядя – гендиректор Жиганов. В свои 18 лет она сделала два аборта, а сейчас нуждается в третьем… Иванов встретил ее однажды на улице в большой компании. Разговор пошел о смысле жизни… Через какое-то время в вагончик к нему она пришла с тремя парнями, готовыми по ее приказу «проучить обидчика». И вот в такой на редкость малоинтеллектуальной аудитории Иванов раскрывает свою, далеко не лишенную смысла концепцию человека. Он говорит о трех человеческих типах, составляющих как бы «тело и душу человечества». Первый – существо безликое, своего рода чистая доска, на которой одновременно размещаются самые разные мнения и взгляды. Второй – человек двумерный: личные интересы переплетаются в нем с интересами классовыми, групповыми, национальными. И, наконец, Иванов рисует своим слушателям картину будущего, когда мир и жизнь спасет третий человек, «чей многомерный ум обнимет весь универсум». «Бугаи», что вполне закономерно, не выдерживают философских концепций Иванова. Идя сюда, они, очевидно, думали, что здесь придется кого-то бить, но хозяин вагончика с их точки зрения, просто «чокнутый». Они уходят, пообещав даже, что вступятся за него, если кто-нибудь посмеет его обидеть. Я, конечно, упростил, даже несколько вульгаризировал ивановскую концепцию человека. Она интересна, хотя вряд ли бесспорна. Она – свидетельство того, как глубоко интересует Валеева-драматурга вопросы, что называется, «вечные». Возможно, далеко не все согласятся со мной, но я склонен считать эту пьесу, как и всю трилогию в целом, очень серьезным вкладом в сокровищницу российской драматургии. Трилогия подкупает какой-то свежестью и своеобразием. Нет, автор, конечно, не гнался за псевдо-оригинальностью, что иногда случается в нашей драматургии. Но у него какое-то особенное видение жизни – умение заметить то, мимо чего спокойно прошли бы другие люди, заинтересовываться этим и построить на этом материале не совсем обычную, но подлинно реалистическую картину, трагедийно-эпическую по своему характеру» (Глава «В поисках морально-нравственных максим» в книге «Золотое двадцатилетие. Этюды о татарских драматургах и актерах». Таткнигоиздат, 1989). Через двадцать лет после того, когда писались эти строки, со многим у Золотарева можно было бы и согласится. Хотя лично мне в трилогии что-то кажется устаревшим, выглядит анахронизмом. Вряд ли сегодня найдется режиссер, который вдруг возьмется поставить на сцене ее всю или хотя бы какую-то ее часть. Что делать, и сегодня многие Валеева приписывают к ряду «производственной драматургии», которая слишком сильно привязана к своему времени, а потому осталась в нем безвозвратно. Впрочем, ведь и Вампилова какое-то время не ставили, а теперь его драматургия стала возвращаться на сцену. И уже в новом качестве, с исторической перспективой. Кто знает, может быть, и валеевские пьесы со временем откроют для себя новые российские режиссеры. Правда, теперь в России вряд ли возможны такие грандиозные проекты – построить не просто комплекс заводов автогиганта, но целый город. В какой-то мере КамАЗ, БАМ и проч. подорвали экономические силы державы (слишком много на всесоюзных ударных разворовывалось и просто гробилось в землю), что ускорило развал Советского Союза. И теперь на обломках империи возможны лишь такие проекты, как особая экономическая зона «Алабуга», прежде всего рассчитанные завлечь сюда заграничных инвесторов. Кстати, эта ОЭЗ тоже возникла на месте гигантской всесоюзной стройки брежневских времен – Камский тракторный завод начинали строить сразу после пуска КАМАЗа и в непосредственной близости от него, но не успели до закончить до начала системного экономического кризиса в СССР. Пробовали перепрофилировать строящееся предприятие в Елабужский автомобильный завод… И снова опоздали – не достроили. А огромную строительную площадку куда теперь девать? Алла бирса, может быть, ОЭЗ «Алабуга» поможет спасти положение? Пока еще рано говорить о свершившемся чуде… В трилогии «не о КамАЗе» запечатлелось движение времени – от радужных молодых песен Алсу в начале строительства, от живительных степных ветров «оттепели» шестидесятых годов к тревожным, нервным годам застольных словопрений и круговой безответственности периода «застоя» семидесятых, и далее – к первым предчувствием перемен в восьмидесятые годы. Диас Валеев стал одним из провозвестником перестройки не тогда, когда стало можно говорить о необходимости обновления общественной жизни, а когда об этом еще только шептались на кухнях. Советский бюрократический аппарат уже чувствовал близость своего конца, а потому бесился и зверствовал при этом с непостижимостью идиота, с неотвратимостью обреченного. Его пресс автор сполна ощутил на себе. Но об этом мы поговорим в третьей части нашего исторического очерка.
Две исторические хроники
«1887» «День Икс»
В первых своих пьесах Диас Валеев помещал персонажей в микро-мир семейных отношений, погружал в быт. В трилогии о строителях его герои уже пытались вырваться из макро-среды, из тесных общественных рамок, преодолевая групповые, клановые, партийные интересы. К концу семидесятых годов, автор решился вывести на сцену героев, действующих на мега-уровне человеческой истории – в самые роковые, поворотные ее моменты. Главный герой его произведений, как и он сам, живет во все времена, во всех странах. Не случайно к первой исторической хронике, которую он сначала назвал «Божество у всех одно – свобода!», в первой же ремарке Диас Валеев допускает, казалось бы, непозволительную для драматурга вольность: он указал конкретный адрес время-место-нахождения своего «Я»! Впрочем, дадим слово автору: «Углы и комнаты, сдаваемые внаем, переулки, тупички, крест церкви и башенка минарета; чей-то сдавленный крик, светящееся в тумане окно – негаснущий лик конспиративной, подпольной России, устремленной в неведомое, глядит на меня из прошлого. И мне кажется иногда, что где-то там и родина моего духа. И там, с ними – я сам». Что это? Исповедальная сноска на полях или лукавое расшаркивание перед парткабинетными блюстителями идеалов? Думаю, для Диаса Валеева – это естественная потребность точно указать авторское, личностное отношение к предстоящему трагедийному действу. Да, он сам студентом баловался революционными разговорчиками на студенческих вечеринках и ночных кухонных посиделках с братом. Увы, он и сам за свои убеждения вызывался органами душевного досмотра и политического сыска на «неформальные» беседы в кабинеты КГБ, к счастью, не побывав в его застенках. Так что для него все описанное в «1887» происходило не «черт знает как давно», в незапамятные времена, о которых нынешние молодые вообще ничего не слышали и не хотят знать, а совсем недавно, каких-нибудь семьдесят лет назад. Для выпускника геологического факультета – практически ничего не значащий временной отрезок, почти исчезающая математическая величина. Геолог-романтик Валеев привык обходиться с историческими эпохами запросто – плюс десять тысяч лет, минус двадцать тысяч… Мы уже упоминали, как производственную трилогию автор начинал с описания древней, дикой, вневременной степи, по которой вольно скачет жеребенок. Теперь он отсылает нас на темную, глухую улочку старой Казани, где сдают внаем углы и комнатки для бедных студентов. Именно по таким адресам в годы реакции восьмидесятых годов ХIХ века собирались запрещенные университетским уставом студенческие землячества, где распространялась нелегальная литература, вольные мысли и новомодные общественные учения. Историческая тема в драматургии – штука хитрая. Это ведь только кажется, что современный автор взялся описывать дела давно минувших дней. Для зрителя на сцене все всегда происходит «здесь и сейчас». Отсюда невольно возникает смещение временных планов, перекличка эпох. Зритель видит, как герои прошлых веков ходят, думают, действуют. И говорят они с нами напрямую, через зеркало сцены – через столетия. Стереоскопическая объемность исторических персонажей обусловлена тем, что зритель уже знает то, чего не могут знать герои – как рассудила их история, что стало со студентами Императорского Казанского университета, решившимися пойти на сходку 1887 года, и что фашисты сделали с участниками татарского подполья в Германии 1944 года. И те и другие были обречены. А нами исторически оправданы еще до начала действия в исторических хрониках Диаса Валеева.
III.1
Как уже упоминалось в предисловии сего повествования, в годы работы актером Казанского театра юного зрителя мне довелось участвовать в работе над спектаклем «1887». Помню, в первый раз я увидел автора, когда тот пришел читать нам свою трагедийную хронику «Божество у всех одно – свобода!». И название, и жанровый подзаголовок уже раздражали своей напыщенностью. Все, что я знал тогда о Диасе Валееве, признаюсь с сожалением, не предполагало моего благожелательного отношения к этому хорошо одетой и изящно постриженной знаменитости. Пьеса на заведомо скучную тему (в советские времена университетскую сходку отмечали каждый год на государственном уровне) еще до начала читки не интересовала ни меня, ни моих друзей актеров, которым уже было известно распределение ролей. Можно было ожидать то общее закулисное предубеждение и к автору, и к его детищу уже потому, что мы только что выпустили блестящий спектакль по пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь!». На его премьеру художник-постановщик спектакля Рашид Сафиуллин (семь лет спустя он оформит и мою первую постановку «Четыре вечера и одно утро») пригласил Андрея Тарковского, у которого работал вторым художником на съемках «Сталкера». Великий режиссер не приехал, но послал в Казань своего второго режиссера и вторую свою супругу Людмилу Тарковскую. На гастролях в Днепропетровске наших замечательных «Любимых» посмотрел сам Никита Михалков, после чего пригласил всю труппу в массовку «Родни», которую снимал в те дни, с его съемочной группой мы играли в футбол (Никита был капитаном своей команды) и выпивали по вечерам (разумеется, уже без Михалкова) в гостинице, где были соседями. И тут вдруг является автор непревзойденных производственных «болтов в томате» про КамАЗ и заявляет чуть ли не с гордостью, что свой политический «паровозик» (так мы называли революционные пьесы на потребу партийному начальству, которое на демонстрациях заставляло нас петь «Наш паровоз вперед лети, в Коммуне остановка…») он написал не к юбилею сходки, а по велению сердца. Мы с ужасом представляли, что теперь нас заставят играть этот спектакль каждый год перед принудительно загнанными в зал студентами университета и потребуют непременно сохранить его в репертуаре вплоть до 1987 года – столетия исторической сходки! Кстати, помнится, в те времена само слово Сходка писалось в учебниках исключительно с большой буквы. Но зачем за этот «паровозик номер восемнадцать – восемьдесят семь» решил взяться Леонид Верзуб? Мы считали, что после спектакля «С любимыми не расставайтесь!», за который ему, конечно же, досталось по полной программе (показывать бракоразводные процессы в театре юного зрителя имени Ленинского комсомола и психиатрическую больницу, где Катя кричит своему бывшему мужу: «Я скучаю по тебе, Митя!» – в ту унылую пору такое считалось чуть ли не крамолой), наш главный режиссер просто решил раскланяться перед властями. Умного и талантливого человека, впрочем, не лишенного бюрократической изворотливости и умения держать нос «по ветру», злословили мы в гримерке, заставили делать спектакль о молодых годах Владимира Ильича Ленина, когда он еще звался Володей Ульяновым. Однако в ходе репетиций мое предубеждение относительно автора и его сочинения постепенно менялось. Верзуб на репетициях очень заботился о воссоздании атмосферы тех лет, помогал актерам вживаться в предлагаемые обстоятельства далекого прошлого, которое смотрело на нас из окна той «конспиративной, подпольной России», где была духовная родина автора. Режиссер решил начать спектакль именно с той вступительной ремарки – на фонограмме в темноте зала эти слова читал сам Диас Валеев. Занятых в спектакле актеров водили в музей истории Казанского университета, где профессор кафедры истории СССР, специалист по революционному движению, знаток народничества Григорий Наумович Вульфсон много интересного рассказал нам о событиях и реалиях тех лет. Мне, начинающему артисту, дали эпизодическую роль. Две сцены, одна реплика. Однако Вульфсон поведал мне о судьбе реального студента Алексеева, которому по жребию выпало дать публично пощечину университетскому инспектору Потапову. Беднягу сначала избил сам пострадавший, после забрали в полицейский участок, а позже отдали в солдаты, поломав, таким образом, человеку всю жизнь. И все это я должен был передать в одной реплике. «Сделаю, ребята! Двину!» – говорит тихоня Алексеев, вытащив из шапки пустую бумажку. Сразу после жеребьевки в курилку, где собрались перед сходкой студенты, врывается страшный инспектор Потапов: «Немедленно на занятия! Предупреждаю: в случае малейших беспорядков все участвующие в оных подлежат исключению! Каково бы ни было их число!» – в это время товарищи начинают подталкивать меня к инспектору, которому я должен дать по физиономии… Самой пощечины, как и сцены сходки, в пьесе не было. Верзуб просил меня в тот момент сыграть без слов все, что потом с моим героем произойдет. Не знаю, как я справился с ролью (о своих актерских способностях я всегда оставался невысокого мнения), но играл тот эпизод с удовольствием. Не меньшее удовлетворение от этого спектакля доставила мне работа в качестве композитора. Я тогда много музицировал и немного сочинял. Заведующая музыкальной частью театра Лилия Абрамская попросила написать вступительную песню к спектаклю («О Казань, ты Казань многогрешная, за грехи наказал тебя Бог!») и польку для фисгармонии, с которой начиналась сцена собрания землячеств. До сих пор храню официальное уведомление ВААП, где сообщалось, что моя музыка к спектаклю «1887» прошла экспертизу на оригинальность и мои авторские права зарегистрированы. Оригинальными были в спектакле и декорации восходящей звезды столичной сценографии Петра Сапегина. Первую авторскую ремарку «углы и комнаты, сдаваемые внаем» художник воссоздал буквально: соорудил на сцене две стеновые конструкции, которые, вращаясь на изломах, создавали все время новые конфигурации углов и тупиков – одна сторона стен была оклеена дешевыми комнатными обоями, а другая заштукатурена под казенное учреждение. Над ними висело настоящее окно, старинное, снятое с дома под снос, «светящее в тумане». В проеме между этими углами, за тем запыленным окном потом, по ходу спектакля, мы увидим ноги повесившегося Шелонова. Эта жуткая картинка до сих пор стоит у меня перед глазами (на самом деле, конечно, висел манекен, а не мой однокурсник по театральному училищу Саша Купцов). Художественное оформление спектакля было изящным, лаконичным, фактурным, очень хорошо передавало атмосферу темноты, затхлости, зажатости углами и обстоятельствами. Всем нам пошили одинаковые университетские мундиры – студентам надлежало ходить на занятия в форме, как на службу. Впрочем, это и была служба, ведь по окончании Императорского университета выпускник автоматически получал личное дворянство с правом ношения шпаги! Уже распределением ролей Леонид Верзуб выразил свое отношение к описываемым в пьесе событиям: участников сходки играли актеры среднего поколения, они выглядели непривычно взрослыми (впрочем, в XIX веке в университет многие поступали сравнительно поздно, да и учились порой годами, как тот же чеховский «вечный студент» Петя Трофимов), на роль же Володи Ульянова главный режиссер назначил своего ученика по театральному училищу Сашу Быренкова. Тот в свои семнадцать лет, наивный, голубоглазый, с румянцем во всю щеку, выглядел совсем ребенком рядом с заслуженными артистами республики Александром Калагановым и Александром Кокуриным, которые играли вожаков студенчества Смелянского и Португалова. Такое назначение актеров на роли только подчеркнуло, что Володя Ульянов – ни в самой сходке, ни в пьесе о ней не играл главную роль. В любом случае, роль ему выпала незавидная: говорит, говорит, говорит… Эта режиссерская задумка исторически была верна. За полгода до поступления Володи в Казанский университет в столице казнили Александра Ульянова – по обвинению в подготовке цареубийства. Поэтому в Казани его младшего брата студенческое подполье сразу признало «своим». Вряд ли он в силу возраста он мог выдвинуться в вожаки (Ульянов проучился всего три месяца!), тем не менее, советская мифология канонизировала ленинскую учебу в Казанском университете как «революционное крещение». И этот факт тогда был свят. Спектакль Верзуба его не опровергал, наоборот, реконструировал буквально. Однако эффект от этого оказался неожиданно дерзким, казался почти святотатственным – мальчишка произносил ужасно умные вещи, а над ним чуть ли не смеялись. Во всяком случае, умилялись, какой он не по годам рассудительный, думающий. Особенно это подчеркивалось в сцене прощания с Людмилой Бааль, слушательницей Санкт-Петербургского университета, причастной к делу о покушении на цареубийство. Полгода назад ее выслали в Казань, а теперь гнали еще дальше – в Сибирь. «Б а а л ь. Через три часа я должна уехать… Я любила вашего старшего брата, Ульянов. Он так и не узнал, что я любила его… Знайте об этом хоть вы. Мне почему-то этого хочется. У л ь я н о в. Спасибо… Людмила Львовна, за доверие. Б а а л ь. Ну, зачем так торжественно? Просто Людмила. Люда. Вы любили кого-нибудь, Володя? Любите? У л ь я н о в. Нет. Еще нет. Б а а л ь. А о чем вы мысленно спорите с братом? Я тоже часто разговариваю с ним. Восьмого ноября исполнилось полгода, как его казнили. Всю ночь плакала, признавалась в любви… Искала вас… проститься… У л ь я н о в. Я много думал после… его казни. Б а а л ь. Вы думающий мальчик, Ульянов. Вы не похожи… Но что-то неуловимое есть, есть. Вот почему меня сразу потянуло к вам. Знайте, есть женщина, которая, пока жива, будет всегда помнить вашего старшего брата. Прощайте, Володя! Скоро сходка. Все сломается. Жизнь пойдет не так, как шла. Все перевернется у всех. Все решится иначе. Но я не хочу, чтобы вы повторили судьбу вашего брата! Желаю вам другой судьбы! Вернее, той же судьбы, но другой смерти». В этом месте, думается, Валеев не мог не вспоминать только что умершего старшего брата Радика. У меня не было старшего брата (зато старше меня, прямо по Чехову, три сестры), потому я хорошо понимаю, какую роль он может сыграть в судьбе человека. Диас Назихович вспоминал, что в ночных кухонных беседах они с Радиком часто говорили и о Великой французской революции, и о наших народовольцах… Сближение автора со своим героем закономерно, его не может не быть, даже если твой персонаж – будущий вождь мирового пролетариата. Общеизвестно, как относился Володя Ульянов к своем старшему брату. В книге В. Рыжовой «Театр и современность» издательства «Знание» пьеса Диаса Валеева о Владимире Ульянове разбирается рядом с пьесой Александра Ремеза «Путь», поставленной Владимиром Саркисовым на малой сцене МХАТ под руководством Анатолия Васильева. Пьеса состоит из четырех бесед Александра Ульянова, озаглавленных «Отец», «Брат», «Сестра», «Мать». И не случайно, наверное, тот тихий, глубокий спектакль вспомнился мне сегодня, 8 мая, когда пишутся эти строки (в этот день в 1887 году Александр Ульянов был казнен за покушение в цареубийстве, в возрасте двадцати лет). Это был серьезный, глубокий, целеустремленный молодой человек, студент Санкт-Петербургского университета, которому прочили большое будущее ученого, не сверни он на путь революции… Автор пьесы «1887» не пытался приписать Володе Ульянову роль в студенческом подполье большую, чем она была на самом деле. Тень казненного брата стала ему авансом, его страстные монологи о выборе революционного пути воспринимались как обычная по тем временам страсть дискутировать. По ходу пьесы Ульянов много говорит, но больше слушает. И только в самом финале можно сказать, что он совершает поступок. В ночь ареста он не собирает с сестрой Олей вещи, не пытается бежать. Он не боится ни тюрем, ни ссылки. И продолжает говорить о выборе другого пути: «Несколько смертей. Сколько их еще будет! Нужно отделить годное от негодного. Не так легко, как кажется. Но ведь есть же какой-то единственный путь! Мы держим в руках судьбу русской истории, а может, и мира всего. О л ь г а. Господи! Об этом разве ты должен думать сейчас? У л ь я н о в. А о чем? О чем еще думать? О л ь г а. Сейчас же придут! Тебя же должны арестовать! Я выйду посмотрю… (Уходит). У л ь я н о в (один). Как темно!.. И будет темно до следующего пожара?! Когда он будет? (Бьет кулаком по стене)». По замыслу автора, в этой финальной ремарке читатели и зрители должны вспомнить легенду о тюремщике, который спросил только что арестованного Ульянова, мол, против кого прете, молодой человек, ведь перед вами стена. Якобы юный Володя ответил: «Стена, да гнилая. Ткни – и развалится!»
III.2
Заместитель начальника Управления театров Министерства культуры РСФСР Игорь Скачков переслал автору отзыв на пьесу «1887» старшего научного сотрудника Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Г. Волковой от 22 февраля 1980 года. Хранительница главного государственного мифа высказала целый ряд замечаний: «Сцены, в которых изображается непосредственно сама сходка, на наш взгляд, нуждаются в доработке («Смелянский забирается на стул, но ножка подломана, и он под общий хохот падает» – стр. 56). Споры студентов об общих проблемах российского освободительного движения, о русском народе, его идеалах, конечно, велись, но наверняка не в день сходки, когда надо было действовать. В пьесе имеются ненужные сцены: стр. 24-25 – интимный разговор Гангардта и Овсянниковой, присутствие пьяного студента на сходке (стр. 54-55). Неправдоподобной выглядит сцена разговора В. Ульянова с Л. Бааль, закончившийся, по представлению автора тем, что Владимир Ильич заплакал (стр. 38)». Диас Валеев в ответе представителю Министерства культуры документально опроверг многие замечания научного рецензента: «Вот статистика. В университете тогда училось 910 человек (плюс еще 6 – наподобие нынешних аспирантов). В сходке приняли участие 256 человек. Из них примерно 50 студентов ветеринарного института. Бросили входные билеты – 99. Написали прошение об увольнении – 40. Из них, кстати, первокурсников было всего 4 человека. 17-летний один – В. Ульянов. Все это говорит о том, что были самые разные студенты. Приводимые цифры не просто цифры. За каждой из них – судьба каждого отдельного человека. Своя драма. Да, был и пьяный маленький студент (это реальный факт: см. А. Иванский. Молодой Ленин. Сб. документов и мемуаров, Политиздат, 1964). Были несколько человек, которые просто заперлись изнутри в одной из аудиторий. Были студенты, бежавшие со сходки. На их фоне тем замечательнее, тем драматичнее выявляется позиция тех, кто остался верен своим идеям до конца. Тех, кто не побоялся. Порой небольшие детали помогают понять те или иные моменты истории нашей гораздо глубже – в нее проникаешь через психологию людей, а психология для литературы – насущный хлеб. И разве умаляет, например, В. Ульянова тот возможный факт, что, говоря о своем погибшем старшем брате с девушкой, любившей Александра, и прощаясь с ней, у него невольно выступают на глазах слезы? У семнадцатилетнего человека, пережившего смерть отца, смерть брата, ссылку сестры? Слезы не символ слабости, в первую очередь это знак человечности». Однако позже слезы вождя Валеев из сцены с Бааль убрал. Отменил падение Смелянского со стула (поначалу Александр Калаганов, помню, долго то падение репетировал). Снял второе название, в котором старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма не распознала цитаты самого вождя мирового пролетариата, оставив лишь четыре цифры. Но главное – начало пьесы, для него автор дописал вступительную сцену на квартире Ульянова, которому Португалов приносит телеграмму из конспиративного центра: «Венчание в начале декабря» – это было зашифрованное указание о начале общего по всей стране выступления студенчества. И теперь пьеса начиналась не с полковника Гангардта, гениально вербующего себе в агенты одного из лидеров студенческого подполья Никонова, что было, в общем-то, логично, а с Володи Ульянова, который играет с сестрой в шашки. Однако переделки эти, на мой взгляд, пьесу не испортили, скорее, наоборот, композиционно укрепили, уточнили. Отдельные слова, возможно, и выпали. Во всяком случае, мотив бесов и бесенят, явно навеянный любимым Достоевским в спектакле звучал не так отчетливо, как в позднейшей редакции при издании сборника драматургии «Пророк и черт» (Казань, 2005). К сожалению, остались в пьесе и незакавыченные цитаты. Так, актриса Надежда Кочнева, исполнительница роли Звонарской, еще в ходе репетиций обнаружила текстуальные совпадения своего предсмертного монолога с воспоминаниями Веры Фигнер. А в реплике Шелонова: «А что если положительной стороны, Ульянов, нет? Нет… за абсолютным отсутствием таковой! Кары разработаны – тюрьмы ссылки, каторга. А награды? Жестянки на грудь? Данте девять кругов ада подробнейше расписал, а где поэт рая? Фантазии не хватает? А если фокус в том, что весь этот огромный мир, весь шар земной – один сплошной минус?! А плюс где-то во Вселенной затерялся. В каком-нибудь созвездии Гончих Псов!.. Его Бог как ненужную кость туда швырнул. А там его кто-то другой грызет. Те же псы, например…» – исполнитель данной роли Александр Купцов нашел буквальные перекличнки с фрагментом из горьковской «Жизни Клима Самгина». Тем не менее, вряд ли это умаляет значение исторической хроники «1887». Сам автор считает сюжетную линию Шелонова – Милонова (реальная фамилия исторического прототипа) главной в трагедийной хронике. Из репрессий 1887 года искра проскочила, как считает Диас Валеев, к репрессиям 1937 года. На ритуальном убийстве своего собрата-студента, вина которого даже не доказана, студенты-революционеры, и в их числе 17-летний Ульянов-Ленин, проходили первую школу масонского воспитания. Однако Леонид Верзуб главную роль в спектакле отводил отнюдь не студенту, а начальнику жандармского управления Казанской губернии Николаю Ивановичу Гангардту. Настоящий полковник, реальное историческое лицо, мастер сыска и ловец человеческих душ – это он через своего настоящего агента Бронского и тайную любовницу Овсянникову сливает подпольщикам дезинформацию, будто Шелонов является его тайным осведомителем. Студенческий суд приговорил Шелонова к смерти. Тот повесился сам, прокляв на прощание своих «судей». А Звонарская застрелила возлюбленного Никонова и сама покончила с собой… Вокруг этих кровавых событий в основном развивается действие исторической хроники, которую автор имеет все основания называть трагедией.
III.3
Окончательно изменила мое отношение к «1887» крайне резкая реакция на тюзовскую постановку со стороны художественного совета Министерства культуры Татарской АССР. Казалось бы, революционная пьеса о студенческой юности «самого человечного человека» в советской мифологии. К чему тут можно вообще придраться? Однако и автор, и режиссер, и приглашенный из Москвы молодой сценограф постарались сделать все, чтобы партийные цензоры и привлеченные ими театральные критики нашли в постановке столько политических и идеологических изъянов, что с первого раза спектакль не приняли категорически. Такое на моей памяти в Казанском тюзе случалось впервые. Обычно просили что-то в спектакле переделать, кое-что убрать. Цеплялись за отдельные реплики, в крайнем случае, заставляли подкорректировать ту или иную сцену. А тут запретили спектакль целиком, потребовав кардинальных переделок! Первым делом я зауважал автора и захотел познакомиться с ним лично. Потом решил глубже разобраться в том, что он написал. Очевидно, убаюканный дежурной тематикой революционной фразеологией, я проглядел что-то между строк? Все мы тогда умели держать кукиш в кармане и понимать эзопов язык. Во всяком случае, я хорошо помню, как 28 декабря 1979 года проглядывал, как обычно, газетный стенд в Ленинском садике под университетской горой – и все во мне вдруг перевернулось. Несколько строк внизу мелким почерком. Сообщение ТАСС об оказании военной помощи братскому народу Афганистана. Не шибко ушибленный политикой, тем не менее, я сразу понял: началась война. Моя страна без объявления напала на другую страну и никаких объяснений этому не требуется. Кто же даст ответ на вопрос: в какой стране мы живем? Между тем, люди готовились к встрече Нового года, известие прошло практически незамеченным. Нашлись отдельные несогласные, тот же академик Сахаров, которого лишили всех наград, трех Золотых звезд Героя социалистического труда и сослали в Горький. Солдатам и всему советскому народу объяснили, что нужно выполнить интернациональный долг. Разумеется, про атаку советским спецназом президентского дворца и убийство Амина мы узнавали лишь по «Голосу Америки», который стали еще больше глушить в эфире. Позже «временный ввод ограниченного контингента советских войск» оправдали тем, что правительство Бабрака Кармаля просило СССР о военной помощи. Хотя известно, что посла НРА в ЧССР Кармаля привезли из Праги в Кабул позже штурма дворца… Вскоре в Казань начали привозить цинковые гробы. Об этом официально, само собой, не сообщалось. Но люди об этом шептались. И по понятным причинам, слухи значительно преувеличивали наши афганские потери. Что там происходило на самом деле, можно было догадаться хотя бы по такому факту: более половины стран мира отказались посылать свои сборные в Москву на Олимпиаду 1980 года. Вот в такое время мы начинали работу над «1887». Связать студенческие революционные дискуссии тех далеких лет с нынешними разговорами на кухнях не составляло труда. Тем более, что в советских газетах упорно повторяли как заклинание, что афганская революция вступила в новую фазу своего развития. Отголоском этих событий в «Родне» Никиты Михалкова стали сцены с идущими маршем военными грузовиками, проходящими на заднем плане через весь фильм воинскими учениями и проводами в финале призывников (куда их, бритых, пошлют?) Ничего этого не было в сценарии Виктора Мережко, который нам давал читать ассистент режиссера в Днепропетровске. Об Афганистане в ней, само собой, нет ни слова, но все равно ее «положили на полку», так как режиссер отказался вырезать кадры с военными. И выпустили на экраны только после смерти «дорогого» Леонида Ильича Брежнева. Леонид Верзуб на переделки в спектакле согласился. Художник из качаловского театра Петр Плотников изготовил новые декорации, весьма напоминавшие музей истории КГУ или фойе Ленинского мемориала (в Казани его сразу прозвали Крематорием). На ступеньках подобного заведения и разворачивалось отредактированное действие. Спектакль стал более плакатным, помпезным, и в таком виде устроил партийное начальство. Наконец, главный режиссер пошел на главное условие, с которым власти соглашались выпустить спектакль: он заменил студента Сашу Быренкова на опытного актера Владимира Фейгина.
III.4
Народный артист Татарстана Владимир Аронович Фейгин был знаковой фигурой в Казанском театре юного зрителя последних двадцати лет. Известность к нему пришла с первой же ролью – Журналиста в драме Валерия Аграновского «Остановите Малахова!» Заметной работой стал его Массовик в спектакле «С любимыми не расставайтесь!» Александра Володина. Как нам видится, не случайно оба персонажа не имели имен собственных, а были обозначены профессиями-масками. Никогда не учившийся актерскому мастерству в каких-либо учебных заведениях, выросший в хулиганском дворе на казанском Бродвее (улицу Баумана старожилы до сих пор называют Бродом, или Баум-стрит), Володя обладал врожденной способностью передать на сцене внутреннюю работу мысли, показать интеллектуальную сферу жизни героев. Все это придавало сыгранным им образам непередаваемую словами глубину. Да и за кулисами он очень скоро стал неформальным лидером. Поэтому после печально знаменитого тюзовского пожара 1995 года (главреж Цейтлин сразу сбежал, прихватив с собой «Золотую маску», которую жюри Национальной премии давало не ему, а коллективу!) Владимир Фейгин стал художественным руководителем театра – так решил коллектив, с этим согласился и минкульт. Худрук ничего сам не ставил, хотя имел режиссерское образование, он видел своей главной задачей сохранение труппы от развала. В самом деле, многие уехали из тюза в те трудные годы. Как только ремонт в театре был в основном закончен, именно Фейгин пригласил главным режиссером Цхвираву. И умер… практически сразу. Сгорел в какие-то два месяца, едва перевалив за полтинник. Новому веку и новому руководству Володя, увы, оказался не нужен… Впрочем, вернемся к Володе Ульянову. Фейгин для этой роли явно не годился ни по возрасту, ни по внешним данным. Зато революционные монологи у него получались убедительнее. Много лет спустя в одном из интервью Владимир Аронович мне признавался, что роль вождя не любил и в произносимый со сцены текст почти не вдумывался. Для этой роли ему перекрасили волосы, изменили прическу, заставили сбрить любимые усы – и все равно он не выглядел молодым гимназистом. Как бы то ни было, Фейгин сыграл Ульянова, как мог. Вытянул «на таланте». А надо сказать, чтобы в советское время сыграть Ленина на сцене – для этого не только талант был необходим. Нужно было одобрение свыше. На такие роли назначали не главные режиссеры, их утверждали на высоком уровне, не ниже отдела культуры обкома партии. После всех проверок. Об этом нам еще в театралке рассказывал учитель – Вадим Григорьевич Остропольский, который специально заканчивал Народный университет марсизма-ленинизма, чтобы сыграть Ленина в спектакле «Между ливнями» по пьесе Исидора Штока. Всего два эпизода с внутренними монологами вождя… Ради этого в качаловский театр специально приглашали гримеров с «Мосфильма»! Коммунистам нужна была икона – и в этом их трудно упрекать. Так что можно понять, почему Володе Фейгину роль тезки не была близка. Он просто выполнял партийное поручение (его даже в партию в ходе репетиций принимали, правда, пока что кандидатом). И звание заслуженного артиста республики вскоре дали, чтобы не говорили, дескать, будущего вождя мирового пролетариата играет недипломированный актер. Кстати, Остропольскому за роль Ленина присвоили в свое время звание народного артиста Татарской АССР. Само собой, я вовсе не считаю, что они не были достойны званий. Наоборот, оба были выдающимися актерами. Другим сыграть бы Ильича просто не дали.
III.5
Для автора трагедии «1887» проблемы со спектаклем в Казанском тюзе оказались далеко не единственными. Эта пьеса принесла ему еще много сюрпризов. И самый тягостный из них был связан с театром, который Диас Валеев искренне считал своим. Главный режиссер Московского театра имени М.Н. Ермоловой Владимир Андреев хоть и взял эту пьесу к постановке, но ставить сам ее не собирался. К тому времени его начали приглашать на разовые постановки в Малый театр Союза ССР, впереди маячила перспектива возглавить этот один из самых прославленных (увы, в те годы один из застойных) театров страны. Понятно, почему он передал пьесу молодому режиссеру Михаилу Скандарову. Тот же с произведением татарского драматурга обошелся чересчур вольно: текстовые длинноты, жаркие революционные споры он вымарал по собственному разумению, не согласовывая сокращения с автором. Диас Валеев попытался было найти понимание у своей давней знакомой Елены Леонидовны Якушкиной, однако заведующая литературной частью ермоловского театра неожиданно приняла сторону молодого режиссера. Более того, поскольку она принимала участие в переделке пьесы, то посчитала, что в праве претендовать в сценическом варианте на соавторство. О чем нашла возможность и выражения намекнуть драматургу при встрече. Диас Валеев ответил категоричным «нет». Присутствовать на репетициях и бороться за свой текст в этот раз он не смог, увидел один из последних прогонов перед самой премьерой. Ермоловцы уже напечатали афиши, кстати, и там они изменили название спектакля, не прислушиваясь к мнению автора, чье имя поместили сверху. Скандаровский скандальный спектакль стал называться «Казанский университет». Очевидно, по аналогии с известной поэмой Евгения Евтушенко. Свое возмущение Диас Валеев выразил в письме на имя директора театра имени Ермоловой Кирилла Сухинича: «Работа над спектаклем по моей новой пьесе близка к завершению. В связи с этим я должен высказать следующее. Театру мной была дана великолепная пьеса, сейчас после ряда некоторых операций мы имеем ее весьма обедненный вариант. Именно поэтому предстоящая премьера будет для меня совершенно безрадостным событием… Чего я хочу сейчас? 1. Начинающий режиссер, проявивший полную бестактность по отношению к живому пока еще автору, слепоту и глухоту эстетического чувства, не позволившие ему отличить живую плоть драматургии от плодов искусственного, но далеко не искусного протезирования, не внушает мне доверия и в своей режиссерской области. Поэтому я прошу в финальной стадии работы самого активного и решающего участия В.А. Андреева. 2. В тексте последнего варианта мной сделаны поправки и замечания. К ним стоит прислушаться. Необходимо также вернуться – в приемлемых для данного этапа работы моментах – к первоначальному тексту, вернуть хотя бы отдельные фразы, кусочки, в особенности это касается финальных сцен. 3. Должен заявить, что в моих книгах и в целом в истории советского театра эта пьеса будет иметь то название, которое ей дал я. 4. Прошу также в случае обращения в театр завлитов, режиссеров других театров страны с просьбой познакомить их с вариантом театра, адресовать их ко мне или в репертуарную коллегию Министерства культуры РСФСР. Аналогичное пожелание я высказывал и письменно выскажу еще раз и И.П. Скачкову. Я не желаю распространения усеченного варианта своей пьесы. Пусть этот вариант и его сценическая реализация будут уникальными. 5. В случае обращения в будущем в театр Всесоюзного радио или Центрального телевидения с предложениями сделать радиоспектакль или телефильм по этому спектаклю, прошу в деловые контакты по этому вопросу не вступать. Я не желаю тиражировать израненный вариант ни в каких формах. Надеюсь, это неприятное недоразумение не омрачит наших отношений, и рассчитываю, что В.А. Андреев и талантливая труппа артистов ермоловского театра спасут положение. С уважением Ваш Диас Валеев». Поскольку Владимир Алексеевич не счел для себя возможным и своевременным вмешаться в работу очередного режиссера в театре, который он еще возглавлял, то его друг драматург посчитал единственной приемлемой для себя формой протеста против произвола ермоловцев не явиться на премьеру. Хотя в то время пребывал в доме творчества в Дубултах и имел возможность приехать. Но и этот вопиющий факт был оставлен москвичами без внимания. Так закончилась десятилетняя дружба Диаса Валеева с Еленой Якушкиной. Да и с Андреевым они теперь лишь изредка созванивались, не более. Владимир Алексеевич сделал попытку к примирению, попытавшись предложить руководству Малого театра пьесу Валеева «Ищу человека», однако народный артист СССР, председатель Всероссийского театрального общества и директор театра Михаил Царев заявил, мол, пока я жив ноги татарина в главном русском театре не будет! По существу все пункты валеевского ультиматума были в дальнейшем нарушены: композицию по спектаклю Всесоюзное радио записало и транслировало неоднократно, в журнале «Театр» напечатали ермоловский сценический вариант пьесы. И все же Диас Валеев побывал на одном из спектаклей, который шел в Москве, можно признать, с успехом. Правда, зрители шли смотреть прежде всего исполнителя главной роли. В 1979 году на телеэкраны вышел фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким в главной роли, что сразу сделало картину культовой. Летом 1980 года легендарный актер и поэт неожиданно скончался в дни проведения в Москве Олимпиады. Смерть кумира, как это всегда случалось, придала его Глебу Жеглову статус лучшей и прощальной кинематографической работы. Пятисерийный фильм повторяли по телевидению чуть ли не каждый год. На фоне посмертной славы и признания Высоцкого, по понятным причинам, как-то потерялся молодой актер Владимир Конкин, исполнитель другой главной роли в картине – Володи Шарапова. Его Павку Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь» сейчас мало кто помнит, да и роман Николая Островского уже не изучают в школе (слишком тенденциозен и примитивен). Впрочем, и в те годы многие упрекали Конкина за ту революционную агитку, признавая, что в односерийной одноименной кинокартине Василий Лановой сыграл Корчагина лучше. А в паре с Владимиром Высоцким, как говорили, вообще должен был сниматься его партнер по Театру на Таганке, замечательный актер Иван Бортник. Не утвердили его на главную роль телевизионные начальники, а Говорухин все равно снял Бортника, но уже в роли Промокашки – и прославил на всю страну. Тем не менее, участие Владимира Конкина в культовом телефильме по роману братьев Вайнеров сделало артиста суперпопулярным. Приглашение его на роль Владимира Ульянова стало для ермоловцев беспроигрышным вариантом. Спектакль много лет делал хорошие сборы и шел довольно часто, правда, я за все годы учебы в Литинституте так и не смог себя уговорить, чтобы сходить его посмотреть. Критика тех лет спектакль ермоловцев особо не превозносила. В упоминавшейся книге Рыжовой (в серии «Искусство» №9, 1982) о «Казанском университете» ермоловцев нашлись не самые лицеприятные слова: «Спектакль, поставленный режиссером М. Скандаровым, – о жестокости первых уроков, о трудности первых шагов, о невосполнимости первых потерь, о душевных ранах от первых ошибок. Володя Ульянов (его играет в спектакле ермоловцев В. Конкин) – еще не вождь, еще не гениальный теоретик и практик революционной борьбы, а один из организаторов ее первого этапа – предстает в процессе раздумий, осмысления жизни. В нем есть только отдельные штрихи, выделяющие его из группы лидеров: чуть большая прозорливость, чуть меньшая категоричность выводов без достаточных оснований, стремлений удержать товарищей от поспешных решений, безбоязненность оценок и личное мужество. Пьесу, значительную смыслом и существом конфликта, режиссер пытается «укрупнить», сделать из нее «полотно» и тем самым мешает выявлению сильных ее сторон. Сработал стереотип мышления – убеждение, что масштаб проблемы можно выразить лишь в монументальной форме». И сам драматург, по понятным причинам, в одном из интервью казанской прессе на вопрос, какой спектакль лучше, ответил прямо: «В казанском варианте постановщики очень бережно отнеслись к пьесе – не изменено буквально ни одного слова. А ермоловцы с текстом обошлись, мягко говоря, вольно. Не отрицаю, спектакль у них получился интересным, было немало похвальных отзывов в столичной печати. И все же… Какому драматургу не хочется видеть свое творение таким, каким оно вышло из-под его пера» (Раиса Щербакова «С долгожданной премьерой!», «ВК», 30.04.1981). «История нас рассудит», – кричит Смелянский в финале пьесы в кабинете Гангардта. Что ж, и в этом давнем споре пусть она выступает судьей. Во всяком случае, на заключительный показ спектаклей IV Всероссийского смотра драматургии и театрального искусства народов СССР в Ленинграде, посвященный 60-летию образования Советского Союза, жюри отобрало казанский спектакль, а не московский. Тюзовцы поехали туда в мае 1982 года, сразу после успешных гастролей в Калуге.
III.6
И все-таки мне жаль, что Шуре Быренкову не дали сыграть Ульянова. В те годы (до моего поступления в Литинститут) мы были дружны, тезка часто бывал у меня в гостях. А жил на Гагарина у бабушки и не любил откровенничать о своих семейных обстоятельствах. Он сыграл в театре заглавные роли в спектаклях «Друг мой Колька», «Король Матиуш Первый», «Принц и нищий». Ему прочили в тюзе большое будущее, и можно было не сомневаться, что он станет ведущим актером труппы. Тому способствовали в первую очередь его внешние данные – типичный подростковый герой. Да и внутренне он был очень разносторонним – начитанным и вдумчивым, обаятельным и смешливым. О его столярных увлечениях я узнал, когда побывал у него дома (бабушка умерла, а Шурик женился на Галке Юрченко, ныне народной артистке РТ) и увидел его столярную мастерскую в темнушке маленькой двухкомнатной хрущевки. У Быренкова были золотые руки! Поэтому, как только представилась возможность, он ушел в кооперативную мастерскую, что размещалась в реконструируемом Пассаже, выучился на краснодеревщика. Однако перед уходом из театра он все же сыграл ту роль, с которой Минкультуры требовало его снять! Случилось это в 1987 году. К столетию сходки на Казанской студии телевидения задумали возродить к тому времени уже выпавший из тюзовского репертуара спектакль. Молодой татарский режиссер Рустем Фатыхов, закончивший в ГИТИСе курс Анатолия Васильева и объехавший с его знаменитым спектаклем «Шесть персонажей в поисках автора» полмира, по возвращении в Казань решил поставить двухсерийный телевизионный фильм по пьесе Диаса Валеева «1887». Фатыхов сумел убедить телевизионное начальство в возможности создать телефильм малыми средствами – не то чтобы малобюджетный, а практически беззатратный! Все снималось в реальных интерьерах университета, изомузея, тюза (старинных фойе бывшего здания Купеческого собрания). Местные телевизионщики никогда еще не снимали на ПТС (переносных видеокамер тогда в природе не было) игровые уличные сцены, да к тому же с синхронной записью звука. Практически все роли сыграли бывшие исполнители в тюзовской постановке (Верзуба уже не было в Казани). Владимир Фейгин сразу отказался участвовать в телепроекте и посоветовал взять на роль Ульянова первого ее исполнителя – Александра Быренкова. Не было в Казани к тому времени и исполнителя роли Гангардта, возможно, тоже к лучшему. Полковника замечательно сыграл уже упоминавшийся нами актер Феликс Пантюшин. Александр Быренков на экране в роли Володи Ульянова смотрелся очень убедительно, и я до сих пор не понимаю, почему Саша решил завязать с актерством, с чего он взял, что это не его дело. Быть может, сказалась душевная травма, которую он пережил в студенческую пору, когда его лишили этой роли? Но что значит для коммунистов одна маленькая частная жизнь в сравнении с мировой революцией! Не один хребет хрустнул во имя торжества коммунизма – как, впрочем, и победы ради теперешнего госкапитализма. А я до сих пор вспоминаю тот замечательный фильм-спектакль и уверен, что он и сегодня смотрелся бы. Хотя не уверен, что в фондах телевидения сохранилась его запись. Рустем Фатыхов, как и Быренков, после съемок решил заняться предпринимательством – он создал в Нижнекамске передвижной татарский драмтеатр. Много лет спустя мы встретились на съемках другого телефильма –Лия Михайловна Загидуллина задумала снять его в своем творческом объединении «Диктор ТВ» по моему сценарию «Все будет якши». Режиссером она пригласила Рустема Анваровича, к тому времени вернувшегося в Казань и работавшего в театральном училище на выпускном татарском актерском курсе. Поскольку все эти годы я преподавал там историю театра, мы виделись часто. Однако лишь здоровались. Прочитав сценарий, Фатыхов впервые, кажется, обратился ко мне с разговором: «Ты, оказывается, сценарии пишешь!» После двух-трех репетиций и первого съемочного дня (во дворе одной из казанских школ) он неожиданно пришел ко мне в редакцию «Казанских ведомостей» и долго хвалил. Признался, что не ожидал, насколько внешне простой сценарий окажется на деле непростым. Признаться, мне и самому было удивительно это наблюдать: после его глубокого, профессионального режиссерского разбора сюжет почему-то не рассыпался, а наоборот, приобрел стройность и осмысленность. Он находил в тексте тонкие детали и смыслы, которых раньше я и сам не замечал. Впрочем, вспоминаю это не для того, чтобы хвастаться. Наоборот, меня его откровенность несколько насторожила и встревожила. Показалось, будто Рустем пришел не столько предлагать дружбу, сколько открыть что-то личное, важное для него… Через несколько дней Фатыхова не стало. Кто-то говорит, сердце. Кто-то намекает на самоубийство. И даже убийство… Увы, что случилось на самом деле, я так и не узнаю никогда. На похороны я успел в самую последнюю минуту, когда тело, обернутое, по мусульманскому обычаю, в саван, выносили из дома на улице Гагарина…
III.7
Для Диаса Валеева телепремьера «1887» стала последним появлением его произведения на сцене и местном телевидении. Дело в том, что за год до этого фильма закончилась его тягостная эпопея со спектаклем «День Икс» в Казанском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова. История данной постановки, занявшая в театральной жизни Казани целых три года скандалов, толков и суждений, подробно описана и дважды издана самим Валеевым. И теперь любой может взять его роман-документ «Чужой, или В очереди на Голгофу», чтобы прочесть обо всем в авторской версии. От себя лишь замечу, что и меня пытались втянуть в тот абсурдный затяжной конфликт, когда в сентябре 1986 года, я пришел в Министерство культуры Татарской АССР на работу – инспектором отдела театров. Упоминаемая в книге «Чужой» Фаузия Усманова, много лет проработавшая в министерском театральном отделе, стала моим добровольным наставником, посвящая во все нюансы инспекторской работы. Однажды она предупредила меня, что следует больше всего опасаться визита к нам двух драматургов – Фаузии Байрамовой и Диаса Валеева. Оба бездари, сутяжники, всех замучили своими пьесами, которые не хотят ставить в театрах республики, и письмами в инстанции, все равно возвращающимися в республиканское министерство. Она даже предложила мне познакомиться с пьесами своей тезки… Байрамову я так и не прочел, а с валеевской драмой «Ищу человека», которую как раз в те дни отклонил худсовет качаловского театра, прочел в рукописи. И сопровождавший ее протокол театрального худсоветова прочитал. Из комментариев Фаузии Усмановой стало известно, что на самом деле пьесу отклонили, потому что автор всех достал своей упрямой несговорчивостью по поводу спектакля «День Икс». Я не стал рассказывать, что подоплеку знаю от самого автора, но при случае передал Диасу Назиховичу суть разговора. Мое личное мнение вряд ли будет интересно в этом запутанном и противоречивом деле, поэтому давайте остановимся лишь на фактах. 23 ноября 1984 года на качаловской сцене состоялась премьера спектакля «День Икс» в постановке главного режиссера театра Натана Басина. Приемочная комиссия Минкультуры ТАССР спектакль не приняла, но и премьеры не отменила. В протоколе заседания значится 21 замечание. После этого комиссии различного состава собирались по поводу спектакля еще десять раз, требуя все новых и новых переделок. Спектакль, поставленный к 40-летию Победы и 80-летию со дня рождения Героя Советского Союза Мусы Джалиля, тем не менее, продолжал идти, показывался на гастролях в Челябинске и Тюмени. 15 февраля 1986 года – в день юбилея поэта «День Икс» был сыгран качаловцами последний раз. 18-го его сняли для показа на местном телевидении. 19 февраля я смотрел его по телевизору, поскольку понимал, что больше его не увижу – по местному ТВ тогда показывали театральные спектакли, когда снимали их с репертуара. Это не устраивало драматурга и режиссера, они продолжали борьбу за спектакль даже тогда, когда декорации «Дня Икс» сожгли во дворе качаловского театра, чтобы исключить любую возможность его возобновления. Валеев с Басиным пытались привлечь на свою сторону столичных критиков, и это им отчасти удалось. В Казани побывала Нина Велехова, которая в декабре 1986 года опубликовала в журнале «Театр» статью, наделавшую в нашем ведомстве и выше много шума. «В драматургическом мастерстве Диаса Валеева присутствует то, что стоит дороже всего, – это конфликтность, – писала известный в те годы критик. – Никакие добродетели не могут спасти пьесу, в которой отсутствует этот заветный источник энергии и движения – незаменимый, невосполнимый и не поддающийся подделке, хотя, если взглянуть на пьесы, весьма нередко встречается его неполноценная замена – вместо конфликта видим лишь материал для конфликта, так называемый «кусок», якобы отколотый о жизни. Но, сняв с конфликта местные или производственные наряды, обнаруживаешь его растекаемость, его сходство с конфликтами других пьес или произведений иных жанров. «День Икс» – пьеса о смерти ради веры в жизнь. Принцип ее написания – смешение метода психологического (Ямалутдинов и Хелле) с медитационным (Джалиль, Дильбар, Девушка-песня) и былинным. Самый конфликт не только назван – он в движении разноустремленных сил пьесы. В образе Мусы Джалиля сказывается эта художественная особенность: он создан не как характер. Муса Джалиль – это сила противостояния, это поток движения, эманация. И машина фашизма, идущая на него. Конфликт пьес подобной тематики обычно исчерпывается самой конфронтацией политических сил, они заменяют драматический конфликт. Диас Валеев считает необходимым и внутренне конфликтное содержание. Конфликт глубокого психологического уровня между Ямалутдиновым и Джалилем, у которых столь разительно несходное представление о долге перед жизнью. Эту пьесу я видела на сцене в Казани в постановке известного режиссера Н. Басина: ей не дали идти на сцене. Что значит «не дали»? Отвечу: комиссия «по приемке» спектаклей (этот вид «комиссий» еще не вышел из употребления) забросала его невыполнимыми замечаниями и никак не могла удовлетвориться – до тех пор, пока режиссер не принял решения в знак протеста уйти из театра. В спектакле, однако, был продуманно раскрыт конфликт в его глубине, не ограниченный только внешними его знаками. Раскрыт с болью, возмущением, гневом современника. В спектакле Натана Басина сталкивались в конфликте с одинаковой силой выразительности как Джалиль (Ю. Федотов), так и преследователи человечности – фашистское военачальство (актеры Ф. Пантюшин, П. Бетев) и не менее важна была тема предательства, создающая разветвление конфликта (Ямалутдинов, сыгранный очень ярко Б. Кудрявцевым). Все актеры жили в ролях. Идея свободы постигалась в спектакле в атмосфере предапокалипсиса, в сне-ужасе, в фантасмагории неузнаваемых, перепуганных, растоптанных ценностей и безумного страдания человеческого тела». Хочу согласиться с автором статьи: когда я впервые прочел пьесу «Поэт и война» в таткнигоиздатовском сборнике Диаса Валеева «Сад», Муса Джалиль не показался мне цельным драматургическим образом. Возможно, не хватило все того же сопереживания герою, которое в произведении для сцены (а не Lesedrame для чтения) незаменимо? Так совпало, что пишу я эти строки 9 мая, в День Победы, поэтому рука не поднимается критиковать героя, казненного в гитлеровском плену, даже если он вымышлен автором пьесы. Но и враги Джалиля, выписанные в «Дне Икс», не вызвали моих симпатий или антипатий. Валеевским Рунге, Хелле и Розенбергу, как мне тогда показалось, сложно было состязаться с обаятельным и умным Мюллером-Броневым из телесериала «Семнадцать мгновений весны». Кроме того, показались трафаретными персонажи пролога: от девушки-песни Дильбар и персонажа С. – поэта, современника, свидетеля, идущего по следу Мусы Джалиля, чтобы понять «уничтожим человек или неуничтожим», до палача, получающего по три марки за каждую голову, срезанную его гильотиной. Нас слишком закормили в детстве патокой патетики, наверное, поэтому я до сих пор, сознавая значительность и трагичность событий, разворачиваемых в трагедийной хронике Диаса Валеева, не могу себя заставить увлечься ее сюжетом. Для нынешнего поколения пепси та далекая история вообще темный лес. Они не знают, когда была Великая Отечественная война, а скоро даже не вспомнят, кто с кем в ней воевал. Правда, потом придут другие… И все же спектакль качаловцев, хотя я видел его лишь в прощальной телевизионной записи, производил впечатление. Как вспоминала позже Лида Огарева, игравшая Дильбар – джалиловскую музу, девушку-песню, которую фашисты ослепляли в спектакле ножницами, ей больше всего было жаль поставленного известным ленинградским хореографом Кириллом Ласкари «Танго смерти», которое танцевали гитлеровцы с узницами концлагеря. Именно эту яркую сцену первой запретили члены комиссии, которые считали, что в спектакле и без того излишне смакуется фашистское превосходство над советскими военопленными. Кто-то из критиков даже предложил убрать свастику с нарукавных повязок гестаповцев, поскольку это антипропаганда.. Так что же заставило республиканскую комиссию установить абсолютный рекорд СССР по приемкам одного спектакля? В самом деле, ни один спектакль, сколько я помню, так долго не сдавался худсовету Минкультуры ТАССР. Неужто одно лишь желание сделать спектакль еще более идеологически выдержанным и художественно цельным? Диас Валеев в «Чужом» приводит истинную, по его мнению, причину беспрецендентной кампании по закрытию спектакля «День Икс». Но прежде чем перейти к ее рассмотрению, позволю замечание «человека со стороны». Одной справедливости ради. Спектакль качаловцев «День Икс» всего был сыгран 35 раз – обычная среднестатистическая продолжительность жизни любого спектакля, если только он не стал действительно событием театральной жизни, как, скажем «Братья и сестры» по Федору Абрамову – самый знаменитый спектакль Льва Додина в питерском Малом драматическом театре, который играют четверть века практически одним и тем же составом. Мог ли стать таким спектаклем «День Икс»? По моему опыту, «датские» спектакли редко потрясали зрителей, разве что «А зори здесь тихие…» 1975 года в Театре на Таганке. Обычно на постановки, посвященные Дню Победы, водили школьников для галочки. К середине восьмидесятых бесконечная череда юбилеев всех определенно утомила, даже начальство. Написанная в 1980 году, опубликованная в журнале «Театральная жизнь», изданная «Советским писателем» и Таткнигоиздатом (последним даже дважды – на татарском и русском языках), наконец, поставленная в Ташкентской «Еш гвардии» и Сурхандарьинском театре имени Уйгуна на узбекском – эта трагедийная хроника, в общем, имела неплохую судьбу. И все же Диас Валеев продолжал бороться именно за спектакль в Казани. Почему? Все дело в том, что в Татарском академическом театре имени Г. Камала шла пьеса Туфана Миннуллина «У совести вариантов нет» в постановке Марселя Салимжанова – о подвиге того же Мусы Джалиля. Разумеется, речи не идет о плагиате или заимствованиях. Вот только в уже цитировавшемся нами письме заместителю начальника Управления театров Министерства культуры РСФСР Игорю Скачкову Диас Валеев по поводу непонравившегося рецензенту ИМЛ заглавия «Божество у всех одно – свобода!» в заключение возьми да обмолвись: «Свобода – один из главных лозунгов революции. Я думаю, здесь не может быть никаких двусмысленных толкований. Но есть и другой вариант названия: «У судьбы вариантов нет». Правда, его я хотел приберечь для другой пьесы. О Джалиле» (23.04.1980). Или это просто совпадение названий? И еще одно совпадение: в пьесе Туфана Миннуллина «У совести вариантов нет» тоже есть образ поэта-современника, который ведет свое следствие. Что же получается? В одном городе в одно и то же время два известных драматурга пишут две пьесы об одном и том же герое, при этом используют одинаковые сюжетные приемы и схожие названия – при этом пьесы абсолютно оригинальные, собственноручно обоими написанные. Невольно в голову приходит мысль о «творческом соревновании». Или нетворческой закулисной подоплеке?
III.8
Внешне они были похожи. Диас Валеев на заседаниях «Литмастерской» нам рассказывал, как к нему порой обращались на улицах «Туфан абый». Оба были красивы и бесспорно талантливы. Первые годы они даже дружили семьями, ходили друг к другу в гости. Однако к концу семидесятых их дороги расходятся. Диас Валеев приводит даже примерную дату – в последних числах сентября 1977 года: «Тогда он заявил мне, что мое творчество не нужно и не будет нужно ни татарскому народу, «ни русским, ни евреям», как он позволил себе выразиться, что поскольку я «не татарин» – не пишу по-татарски, то я, по его мнению, не имею даже права называться татарским драматургом и т.д. В тот вечер «от имени татарского народа» этим человеком (причем все это происходило у него дома, за его столом, в присутствии наших жен) было сказано довольно много подобных «обвинительных» слов в мой адрес. Пожалуй, я бы отнесся к этому разговору, несмотря на всю его абсурдность, как к частному, даже случайному, если бы не ошеломивший меня вывод, брошенный Т. Миннуллиным в завершение этого разговора: «С нашей шайкой» (это буквальное выражение), в которую, по его же словам, входят главный режиссер Академического театра М. Салимжанов, еще кто-то, «тебе придется считаться». Короче говоря, татарский народ, от имени которого я подвергался остракизму, свелся до «шайки» из нескольких человек, как видно, довольно известных и уважаемых в нашей республике, и мне одним из ее представителей прямо, нагло и с чувством полной безнаказанности был предъявлен ультиматум, сулящий перспективы далеко не благоприятные». Эта цитата – из письма, которое Диас Валеев послал в обком партии и правление Союза писателей. Нет, это не кляуза, не донос, увы, обычное по тем временам дело. Тогда писали тонны писем по любому поводу, в редакции газет, на радио и телевидение, но больше в партийные, государственные и общественные организации. В данном случае, писатель сам объясняет, почему обратился с письмом к коллегам по писательскому цеху: «полагаю, что групповщина явление не экстраординарное, но явно аномальное и опасное. Ей не должно быть места. Думаю, что и перед татарской литературой, и в целом перед всем советским искусством стоят сейчас общие задачи колоссальной важности и значения, стоит ли разменивать творческие силы на какую-то мелкую интриганскую возню! Места под солнцем хватит всем, был бы талант. И были бы мы еще в чисто человеческом плане не меньше своего таланта. Член КПСС, член Союза писателей СССР Диас Валеев, 25 февраля 1978 года». Письмо и его обсуждения на всех уровнях, возможно, стало поводом для главного режиссера театра имени Г. Камала Марселя Салимжанова, упоминавшемся в письме Диасом Валеевым, выступить в журнале «Театральная жизнь» со статьей «Основа основ» в конце того же года: «Есть пьесы, их много, в которых речь идет о современных молодых или тридцати-сорокалетних людях, чьи внешние черты, определяющие их национальность, фактически сведены к нулю. И в жизни это, на первый взгляд, так. Иногда почти невозможно по лицу, костюму и манере поведения определить, к какой нации принадлежит человек. Но и в этом случае телантливый писатель, хорошо знающий жизнь и душу своего народа, найдет художественные средства, чтобы передать сущность его характера. То же самое происходит и в театре: в каждом национальном искусстве есть определенный способ выражения чувств, присущий только данному народу или группе сходных народов. Национальная принадлежность искусства всегда очень чутко улавливается зрителем». Не кажется ли вам, что речь идет о пьесе «Сквозь поражение», которая третий год репетировалась в камаловском театре, и ее главном герое Салихе Самматове? Тогда получается, что дальше Салимжанов недвусмысленно намекает уже на ее автора: «За последнее время среди драматургов народов СССР появился ряд писателей, которые пишут по-русски, а потом их пьесы переводят на родной язык. Но эта форма или метод письма, на мой взгляд, зачастую приносит вред произведению: при переводе теряется сочность, точность языка, размывается характер персонажей. Вообще, перевод – дело ответственное и серьезное». Однако дальше режиссер приводит Диаса Валеева в качестве примера для подражания: «Тот отрадный факт, что пьесы современных татарских драматургов Т. Миннуллина, А. Гилязова, И. Юзеева, Д. Валеева, Ш. Хусаинова, Х. Вахита довольно широко стали идти по стране, говорит о качественном росте нашей драматургии. Приход в театр совсем молодых способных театральных писателей Р. Хамидуллина, Ю. Сафиуллина дает нам право думать о дальнейшем развитии нашего искусства» (№22, 1978). Почему-то не хочется думать, что режиссер Марсель Салимжанов, треть века посвятивший славе татарского театра, а также его друг и соратник Туфан Миннуллин – ныне народный писатель РТ, президент Татарского ПЕН-центра, депутат Государственной думы РТ могли столько времени и сил тратить на травлю Диаса Валеева. Пусть даже за то, что он не пишет на родном языке. Не вижу ничего дурного в том, что Владимир Набоков написал «Лолиту» по-английски, лично я от того не перестал считать его великим русским писателем. С другой стороны, а кому же еще надо тревожиться за судьбу татарской литературы, если не самим татарам? Не видел принципиальных разногласий в личной ссоре Диаса Валеева с Туфаном Миннуллиным и председатель правления Союза писателей ТАССР в те годы, всеми уважаемый Гариф Ахунов: «Так же, как и Диас Валеев, к образу Мусы Джалиля обращались и такие видные наши драматурги, как Н. Исанбет, Р. Ишмурат. Позже них И. Юзеев создал совершенно новую драматическую поэму. Т. Миннуллин написал серьезное публицистическое произведение, – пишет он в статье «Пьесы и литературные портреты» (перевод Виля Мустафина). – Но в «Дне Икс» Д. Валеев находит отличную от других трактовку; если же обратить внимание на специфику использования им документального материала, то на основе документов драматург раскрывает психологию столкновения людей двух противостоящих в лютой схватке лагерей, психологический процесс столкновения двух идеологий. Несмотря на физическую гибель джалиловцев, автору удается показать их полную победу над врагом, раскрыть причины этой победы. Обобщая сказанное, отмечаю: поставив перед собой крупную цель, автор в каждой пьесе добивается всестороннего раскрытия героя. Когда я мысленно обобщал драматургию Диаса Валеева, я обратил внимание на одно явление, поделиться которым, думаю, не будет излишним. Автора не так волнуют события, в которых участвуют его герои, гораздо больше его интересует, пожалуй, мировоззрение героев, их мировосприятие… Пьесы Валеева насыщены интеллектуальной информацией, иногда, возможно, даже с излишком. Валеев хочет, чтобы зритель прислушался к умному слову, научился думать, размышлять. Для драматурга – это очень сложная, но благородная задача». И там же, в IV томе собрания сочинений Гарифа Ахунова (Таткнигоиздат, 1984), можно найти ответ Туфану Миннуллину, касающийся языковой принадлежности писателя: «Диас Валеев пишет на русском языке. Это еще одна интересная особенность нашего времени. В национальных республиках создание литературных произведений на русском языке во второй половине двадцатого столетия стало нормой и утвердилось как одно из ответвлений национальных литератур. В Киргизии – Чингиз Айтматов, в Азербайджане – наш соплеменник Ибрагимбеков, в татарской литературе – Рустем Кутуй и Марсель Зарипов, в молдавской – Ион Друцэ, все они пишут на русском языке. Среди татарских писателей, пишущих на русском, – и Диас Валеев. Он закончил геологический факультет Казанского университета. Работал геологом в Сибири. Поле его наблюдений – вся страна. Но при всем при этом Диас Валеев именно татарский драматург. Последнее обстоятельство я особо подчеркиваю». А нам останется подчеркнуть, что в затянувшемся споре двух известных драматургов, в который были втянуты все партийные, государственные и общественные организации, думается, победителя и побежденного просто быть не могло. Через семь лет после первого письма Диас Валеев снова пишет в обком КПСС, на этот раз секретарю по идеологии Раису Беляеву: «Скандалы, меньшей или сравнительной силы, возникали в шести случаях из восьми моих казанских премьер… и в трех случаях из пяти вокруг издания моих книг. Девять раз за тринадцать лет. Не много ли? И как долго будет продолжаться эта бесконечная травля? Мой старший брат Р.Н. Валеев, доктор геолого-минералогических наук, завотделом в Казанском институте нерудного сырья, известный в геологических кругах страны тектонист, был затравлен подобными же людьми до смерти в 45 лет. Потом на его могиле эти люди говорили о том, что как жаль, что так рано из жизни ушел выдающийся талантливый ученый. Что, теперь наступила моя очередь? В этой жизни я ничего не боюсь. Мой отец Н.Г. Валеев, в свое время первый секретарь Алькеевского райкома партии, был опять же в свое время арестован. Ему предъявили 21 пункт обвинений, по 15 он допрашивался. О методах допроса мне позже рассказала его спина. Год просидел в одиночке, был осужден судом на 10 лет, но поскольку он ни в одном пункте не признался и поскольку не было ни одного доказательства его вины, через год его были вынуждены за «отсутствием состава преступления» освободить. Своих освободителей, пришедших к нему в камеру, он встретил матом. Почему? За это время, за год отсидки, исчезли его часы кировского завода. Кто-то украл. Он заявил, что пока часы не будут найдены, он никуда из тюрьмы не уйдет. И добровольно просидел еще сутки в своей одиночке, пока часы не были найдены. Так вот – я в отца. Я из тех татар, которых ничто не может остановить, которых останавливает лишь смерть». Как известно, Беляев был первым секретарем горкома партии в Набережных Челнах, когда там строился КамАЗ. Писатель не скрывал, что отчасти Раис Киямович стал прототипом Саттарова. А дальше Валеев снова пишет о 21 пункте обвинений: «Мы с Н.И. Басиным учли целый ряд замечаний – 21 пункт. Но кое в чем спектакль проиграл. Например, сняли так называемое «Танго смерти» – танец врагов и их жертв и одновременно противников, заключенных. Это метафора всего спектакля, образ его. Этот танец надо восстановить» (1.1.85). Создается впечатление, что речь уже не только о спектакле «День Икс» Диаса Валеева. И не только о Туфане Миннуллине. Становится жалко… поэта Мусу Джалиля. Писать о тех или иных исторических личностях писатели, конечно, будут всегда. Но все же – после пушкинского «Бориса Годунова» лишь через полвека Алексей Толстой написал свою трагедию «Царь Борис», но все равно сравнения были не в пользу последнего. Сергей Есенин создал «Пугачева» чуть ли не через столетие после пушкинской «Капитанской дочки» – тем не менее, драматическая поэма о жизни мнимого Петра III прозвучала со сцены лишь в конце 60-х годов прошлого века. Юрий Любимов поставил на Таганке «Пугачева» с интермедиями есенинского друга Николая Эрдмана. Так повелось в литературе: исторические сюжеты, если их уже использовал другой автор, брать для нового художественного произведения не возбраняется – но не приветствуется. В истории еще столько белых пятен – только знай пиши!
III.9
О своем отношении к Диасу Валееву лично и его творчеству в целом мне все же пришлось заявить в Министерстве культуры открыто, когда в самом начале 1987 года готовилось официальное письмо по поводу статьи Нины Велеховой «День Икс, или Будущее вне нас». Меня сразу отключили от подготовки ответа «турецкому султану» и не стали посвящать в его содержание. А мне это было на руку, тем более, что на мои частые отлучки рабочего места смотрели сквозь пальцы – в те дни «Четыре вечера и одно утро» уже репетировали на сцене. Пьесу до сих пор не залитовали, руководство минкультуры очень настороженно отнеслось к моему опусу, поэтому стало собирать на пьесу внутренние рецензии. Один из рецензентов – Халит Кумысников открыто подошел ко мне прямо в отделе театров и прямо заявил: «Ты написал хорошую пьесу!» – и отдал рецензию Фаузие Усмановой. Директор тюза Сергей Овсянников сообщил, что замминистра Лилия Нарбекова боится за мою пьесу. Но мне, своему подчиненному, не решается сказать об этом прямо. Сергей Константинович предложил обратиться к Розову, моему учителю, не напишет ли тот письмо в Минкультуры ТАССР? Навязываться к мастеру с личной просьбой было неудобно. Но ничего другого не оставалось. Из местных литераторов меня знал лишь Диас Валеев, но у него самого кругом неприятности… К моему счастью и удивлению, Виктор Сергеевич откликнулся быстро и по существу. Пьесу он помнил, ее художественные достоинства оценивал, как мне показалось, даже слишком высоко, чтобы подчеркнуть необходимость ее постановки. В общем, письмо классика подействовало – 5 марта 1987 года состоялась премьера спектакля «Четыре вечера и одно утро» в театре юного зрителя. И именно в этот день была поставлена окончательная точка в 27-месячном противостоянии Диаса Валеева с председателем Союза писателей ТАССР, депутатом Верховного Совета республики Туфаном Миннуллиным и секретарем обкома партии Раисом Беляевым. Спектакля «День Икс» уже больше года не существовало физически, даже запись его на студии телевидения стерли. Встреча состоялась в самом главном кабинете Татарстана – у члена Президиума Верховного Совета СССР, первого секретаря Татарского обкома КПСС Гумера Исмагиловича Усманова, который во всеуслышание заявил министру культуры ТАССР Таишеву: – Марсель Мазгарович! Разговоры, которые возникают о постановках пьес Валеева в бугульминском и качаловском театрах, надо немедленно прекратить. Никаких рекомендаций. Никаких постановок. Ни о каком возобновлении «Дня Икс», естественно, не может идти речи! Таким образом, вопрос о будущем драматурга Диаса Валеева в Казани и республике был снят окончательно. Его отлучили от профессии. Первый секретарь попытался заодно стравить писателя с третьим секретарем. Дело в том, что Усманов заподозрил своего подчиненного, будто тот метит на его место, и решил устранить претендента. Во всяком случае, глухие слухи о беляевских притязаниях по Казани циркулировали. Диас Валеев догадался, что у Раиса Киямовича крупные неприятности – и не стал вносить своей лепты в чужую травлю… В самом деле, Беляев был в республике личностью популярной, его хорошо знали в Москве как строителя КамАЗа. Не сумев заручиться поддержкой Диаса Валеева, первый секретарь ОК КПСС Гумер Усманов решил свалить неугодного Беляева с помощью Туфана Миннуллина. Председателя Союза писателей заставили признаться, что на юбилейных торжествах по случаю 80-летия Мусы Джалиля в Москве (куда не взяли «День Икс»), в номере у Беляева состоялось распитие водки и коньяка. В разгар лигачевской антиалкогольной кампании это прегрешение перед советским народом было куда страшнее, нежели конфликт с каким-то писателем Валеевым, пусть даже известным всей стране. Ирония судьбы в той заоблачно-обкомовской игре заключалась в том, что все знали: Раис Беляев являлся убежденным трезвенником – потому его и решили ударить больнее, осудить публично и снять с работы именно за пьянку! Кстати, в те дни, на коллегии Министерства культуры Татарской АССР, где мне по должности положено было присутствовать, Марсель Мазгарович Таишев публично каялся с трибуны, что тоже участвовал в той московской пьянке годичной давности, в чем искренне раскаивается и просит своих товарищей от культуры не судить его слишком строго. Смешно и жутко было мне смотреть на тот спектакль общественного покаяния и лицемерного порицания подчиненными своего руководителя. Но вернемся в пятое марта. Вечером на премьере моих «Четырех вечеров» Диас Назихович тепло меня поздравил. Ошеломленный происходящим, счастливый и слепой, я понятия не имел, какие воистине черные минуты своей жизни переживал учитель! Поблагодарив его за все, я отошел за новой порцией поздравлений. В том числе от министра культуры Таишева. Ведь я не знал, что Марсель Мазгарович с заведующей отделом культуры обкома партии Данией Зариповой в тот вечер были на моей премьере с конкретным партийным поручением: им поручили передать Диасу Валееву, что последствия беседы в кабинете первого секретаря Татарского обкома КПСС будут самые серьезные. И они не заставили себя ждать. Впрочем, герой нашего повествования был к ним всегда готов. Долгие годы борьбы закалили. О Диасе Валееве всегда в Казани говорили, что он скандалист, говорит, что думает, пишет письма, куда вздумается. Но не был он ни склочником, ни сутяжником. И конфликт, если разобраться, возник не конкретно с Туфаном Миннуллиным, ни с местной властью в частности или с режимом в целом. Валеев по природе своей всегда себя ощущал в противопоставлении с внешним миром, средой, бытом. Он был не столько «против», сколько «поперек», «вовне». Можно сказать, что драматург не вписывался в своей время, но можно сформулировать и так, что он в нем попросту не умещался? Во всяком случае, Диас Валеев был больше, чем «драматург-производственник», каким его считали в свое время. Давным-давно не стало ни КПСС, ни ее обкомов, однако приговор Диасу Валееву непостижимым образом остается в силе. Театры о нем забыли.
Один политический фарс
«Карликовый буйвол»
После трагической гибели Александра Вампилова в водах ледяного даже летом Байкала в рукописях драматурга нашли неоконченный водевиль «Несравненный Наконечников». Почитатели вампиловского таланта были в замешательстве, написанные полторы картины совершенно не вязались стилистически с пятью известными вампиловскими пьесами. Критики сошлись во мнении, останься Вампилов в живых, неоконченным Наконечниковым он начал бы новый этап в своем творчестве. После политического фарса в кабинете первого секретаря обкома партии Усманова можно было говорить о гибели драматурга Диаса Валеева как о свершившемся факте. Да и сам он себе поклялся не иметь больше дела с театром и не писать никогда пьес. Но однажды, уже в девяностые годы и совсем в другой стране, он снова сядет и напишет в один присест пьесу, которая не идет ни в какое сравнение со всей предыдущей его драматургией. Впрочем, «сядет и напишет» – это не про «Карликового буйвола». Потому что последнюю пьесу Валеев не писал сидя. А диктовал лежа жене. По утрам, не совсем еще проснувшись, Дина Каримовна быстро записывала по одной картине, иногда по две. После чего муж снова засыпал. А супруга садилась расшифровывать записи… На все про все ушло у них девять дней. Диас Назихович вспоминает, что у него тогда сложилось впечатление, будто это не он надиктовывал жене реплики персонажей, а ему самому словно кто-то свыше диктовал уже вполне готовый текст комедии. Отсюда исходит та легкость, с какой родилось сочинение в высшей степени хулиганское, цельное и живое, что несвойственно другим драматическим произведениям Валеева. А хулиганский и реалистичный в своих первых пьесах Александр Вампилов оставил после себя набросок в жанре «водевиля в двух действиях с прологом и эпилогом», по сути фарса, а может быть даже абсурда, категорически запрещенного в СССР. Оборвана была работа безвременной смертью или автор сам прервал работу над пьесой на том, как страховой агент представилась непривычным для сибирской глубинки именем: «Эльвира…» – гадать не имеет смысла. Мы уже не узнаем, о чем думал Вампилов в последние свои дни. И все же можно сделать предположение (его мы постараемся развить ниже), что драматург впервые для себя решил строить драматический конфликт на столкновении своего героя с властью. До этого кутуликовский хулиган и иркутский интеллектуал принципиально не лез в политику. Более того, Вампилов и раздражал, может быть, начальство тем, что герои его пьес жили так, будто никакой советской власти вокруг них не было.
IV.1
Для Валеева политическая тема, наоборот, возникала достаточно органично. Еще в предперестроечные годы, когда режим пытался андроповскими репрессиями и черненковскими «заморозками» сохранить все как было, Диас Валеев окончательно сложился в восприятии современников как видный общественный деятель. Он помогал неправедно осужденным, обращавшимся в письмах к известному писателю за помощью. Благодаря ходатайствам в высшие инстанции, статьям в местных газетах и центральных журналах были освобождены из-под стражи несколько невинно пострадавших людей. Такая правозащитная деятельность имела резонанс: бывали случаи, когда задержанных в милиции прекращали избивать, стоило тем закричать, что они обратятся за защитой к писателю Валееву. Само собой, не все представители правоохранительных органов были за это ему благодарны. Особенно громко, на всю страну прозвучала история защиты Диасом Валеевым бедного возчика с Колхозного рынка, который соорудил на пустыре свинарник и откармливал скот базарными отходами, а деньги от реализации мяса перечислял в казанский Дом ребенка, ивановскую школу-интернат или в Фонд мира. Вместо благодарности «новому Деточкину» пытались шить уголовные дела по факту спекуляции, незаконному предпринимательству или, на худой конец, использованию казенной лошади в личных целях. В московском журнале «Смена» в течение ряда лет вышло шесть больших статей Диаса Валеева о казанском бессребреннике Асхате Галимзянове, который сам с семьей живет в трущобах, в бедности, но все заработанные в свободное время средства отдает детям. Он стал героем валеевского трактата «Третий человек, или Небожитель», как пример мега-человека, который живет не сиюминутной выгодой, не классово-клановыми интересами, но высшими ценностями, как он их понимает. Усилия Валеева не прошли бесследно: Горсовет, а позже и Совет министров республики приняли по Галимзянову отдельные решения, возчика-мецената оставили в покое. А в дальнейшем даже дали ему двухкомнатную квартиру, представили к ордену. Сейчас Асхат Галимзянович – известный благотворитель, уважаемый в республике предприниматель, который каждый год раздает микроавтобусы, бытовую технику и одежду для социальных приютов. Помнится, Диас Назихович водил меня в те годы знакомиться с этим чудиком, эдаким Дон Кихотом базарных задворок, привыкшего прикрываться маской юродивого, чтобы я написал о нем очерк. Но у меня так ничего и не вышло. Не моя тема. Да и не разглядел я в Асхате Галимзяновиче, как ни старался, того человека будущего, которого увидел в нем Диас Валеев. Общественная деятельность писателя в советское время была делом распространенным, хотя, конечно, далеко не все «инженеры человеческих душ» добровольно брали на себя бремя ответственности за судьбы конкретных «маленьких» людей. Для Валеева это было настолько естественно, внутренне органично, что и вопроса не возникало, зачем ему все это нужно. На площади Свободы, где в годы перестройки собирались стихийные митинги, ему охотно давали слово. Его даже выдвинули кандидатом в народные депутаты Верховного Совета СССР, как только в стране объявили первые свободные (увы, они же и последние) демократические выборы. Я слышал его речи на площади Свободы и радовался за него, хотя, честно говоря, не верил ни минуты, что Диас Назихович сможет победить. Основным его соперником выступал ректор Казанского университета Александр Коновалов, а при КГУ была своя типография, административный ресурс и тогда играл решающую роль. Но Валеев и не проиграл – не хватило, помнится, всего нескольких процентов голосов. Да и как мог победить на выборах писатель, предложивший сопернику-ученому добровольно отказаться баллотироваться в пользу представителя рабочего класса? В том недальновидном предложении сказались не только коммунистические взгляды Валеева, но и его тайное нежелание становиться политиком. Мне кажется, Диас Назихович сам был не готов круто изменить свою судьбу. Привычка к внутреннему затворничеству, добровольному подполью, страсть писательства и религиозного проповедничества, о которой тогда еще никто не догадывался, взяли верх.
IV.2
История возникновения замысла «Карликового буйвола» по-своему интересна и знаменательна. В апреле 1992 года Диасу Валееву позвонил из Санкт-Петербурга все тот же Натан Басин. Не нашедший себе применения в Казани, не дождавшийся приглашений ни из одного театра провинции (среди чиновников и сейчас действует круговая порука: принято созваниваться и узнавать на прежнем месте работы о профессиональных и человеческих качествах, а также лояльности работника к руководству) к тому времени он все же стал режиссером. И ни в каком-нибудь варьете, а в Академическом театре имени А.С. Пушкина, на некогда главной сцене страны. Для дебюта в Александринке Натан Израилевич искал что-нибудь незатасканное, современное, злободневное. Диас Назихович отнекивался, мол, завязал с театром, не хочется ворошить былое, да и занят своим религиозно-философским трудом… Но вдруг неожиданно, прямо во время разговора, его посетил замысел – невероятный и скандальный настолько, что Валеев не рискнул даже намекнуть собеседнику, о чем будет пьеса. А поспешил свернуть разговор и сразу сел за рабочий стол. Для наброска сюжета хватило одной тетрадной странички… Когда пьеса была готова, Диасу Валееву попалась на глаза публикация его украинского знакомого поэта Бориса Олейника, который в «Князе тьмы» рассказал о своей последней встрече с Михаилом Горбачевым: «Кто-то тронул меня за плечо. Один из работников аппарата показал глазами в сторону: мол, зовет. Я слишком длительное время не видел президента вблизи. Потому первое, что меня поразило, это еле уловимое внешне, но внутренне явственно ощутимое изменение во всем облике. Всегда подтянутая, пружинистая фактура обмякла. Несмотря на явные усилия держать голову, как всегда откинутой – взглядом вдаль, – плечи заметно ссутулились. – Присядь, – сказал он с рукопожатием (рука была, как всегда горячая, но какая-то нетвердая). – Что, Борис, выживем? Последняя фраза пробивалась в сознание не сразу, поскольку мое внимание загипнотизировали совершенно новые, чужие черты, появившиеся в его лице. Оно как-то неестественно вытянулось… изменило очертания, и я открыл в нем что-то ассирийское… что ли? Очнувшись от поразившего меня открытия, я ответил: – Выживем-то выживем, но… Он как-то странно заерзал, начал перебирать бумаги. Это была моя последняя встреча с ним. На другой день он подписал свое отречение и самовольно распустил партию, т.е. волей-неволей, но ликвидировал существующий строй…» Когда Олейник прочел «Карликового буйвола», он позвонил Валееву из Киева: – Диас Назихович, откуда вы узнали, что это не он? – Не знаю, не знаю! А вы убедились, что это не он?! – Мне показалось, что да – не он! Мне показалось, но точно – не знаю… Но я почувствовал, что он помечен! Понимаете, помечен! Еще в бытность Горбачева генсеком ЦК КПСС, а потом первым и последним президентом СССР в народе его звали «Мишка Меченый» – за родинку на голове. Находились «знатоки», которые всерьез брались доказывать, будто рисунок горбачевской родинки является тайным знаком сатаны.
IV.3
Сейчас трудно представить, чтобы про Путина могли публично, на всю страну, вымолвить то, что говорили про Горбачева. И он был вынужден мириться, поскольку сам призывал к гласности. Ельцин вообще провозгласил свободу слова, поэтому о нем и его окружении на ТВ крутили популярный сериал Шендеровича и Пичула «Куклы» (Путин это издевательство над властью сразу прикрыл). Впрочем, если быть исторически точным, впервые тема кукол и кукловодов прозвучала в трагифарсе-триллере Диаса Валеева «Карликовый буйвол». Поддавшись давнему желанию написать продолжение известной народной сказки «По щучьему велению», признаться и я царскую дочь Несмеяну, извлечившуюся от слез и ставшую женой царя Емели, назвал Райкой. А пьесу поначалу озаглавил «Райком» – очень уж затягивали самые разные смыслы этого старинного слова. Это вам и театральная галерка, где обычно размещалась простая бедная публика, и производное от него обозначение «полувысшего света». Это и скомороший ящик, что-то вроде камеры Обскура, где через простейшую оптику показывали ярмарочным зевакам просвечивающие картинки заморских стран и невиданных зверей. Отсюда райком стали называть и некий жанр театральных скомороших представлений, иначе именуемый раешником. Это и уменьшительное, даже скорее вывернутое антонимически значение библейского Рая. Наконец, это один из вариантов произношения женского имени Раиса. В 1987 году, когда писалась пьеса (в последующих редакциях переименованная в раешник-рэп «Как уху Емеля ел»), этим именем в Советском Союзе звали только одну женщину – первая леди страны Раиса Максимовна Горбачева, очаровавшая весь мир своей улыбкой, одеяниями и обаянием, вызывала ярое недовольство и даже озлобление в народе. Я сделал Райку женой Емели, который уже на следующий день после свадьбы понял, в какой «раёк», в какой гадюшник он попал – и в результате решил отдать всю власть и все земли народу… В свои неполные тридцать лет я наивно верил, что Горбачев именно такой Емеля-дурак, потому что разрешил народу создавать кооперативы, провозгласив «разрешено все, что законом не запрещено». Увы, и теперь, в неполные пятьдесят, я продолжаю подозревать, что те недолгие три-четыре года в истории нашей страны были единственным временем экономической и творческой свободы, превзошедшим даже ленинский «нэп». На пути разрешения коммерческой инициативы для самых низов, а не только для кучки приближенных к власти лиц, возможно, ждал бы нас тот экономический успех, которого теперь достигли Китай, Индия, Иран? К сожалению, Ельцин развалил страну и постепенно свернул горбачевские свободы в сфере частной инициативы, позволив в ходе приватизации (ее в народе сразу прозвали «прихватизацией») присвоить несметные природные богатства, гигантские производственные мощности, стратегические отрасли промышленности нескольким комсомольско-криминальным кланам. Произошло то, что в своей книге и документальном фильме выпускник геологического факультета Казанского университета, народный депутат и известный режиссер Станислав Говорухин назвал «Великой криминальной революцией». Валееву и Олейнику уже через три месяца после отречения Горбачева от власти приходит в голову сюжет о его подмене в Форосе двойником. Тогда получалось, после путча правил страной, фактически усиленно ее разваливая, не Михаил Сергеевич, а самозванец, посаженный на трон спецслужбами? Во всяком случае, миф о том, что Горбачева подменили, тоже в те годы имел хождение. Как и позже, слухи о двойнике Ельцина, которые сам Валеев считал вполне достоверными. Так что нет ничего удивительного в том, что два писателя писали об одном и том же.
IV.4
В последней своей пьесе Валеев отказывается от характерной для себя манеры наделять своих героев собственными философскими монологами и заставлять их дискутировать на социально-значимые темы, а позволяет им действовать в необычных, даже невероятных предлагаемых обстоятельствах. Начинается, казалось бы, с анекдота: однажды в дом в обычную семью входит… бывший генеральный секретарь Леонид Сергеевич Ворвачев. Вокруг уже давно другая страна, в президентах забулдыга Борисыч, а бывший генсек порывается добраться до Москвы и вернуть себе хотя бы домашние тапочки, жену и соответствующее отставному президенту положение, которым теперь пользуется двойник. Эту сцену и всю пьесу в целом Диас Валеев предваряет ироничной ссылкой: «Мнения и высказывания персонажей могут не совпадать с мнением автора, о чем последний глубоко скорбит, поскольку является благонамеренным и законопослушным гражданином исчезнувшего, но подразумеваемого Отечества. Автор также не отвечает за любые параллели и ассоциации с какими-либо реальными лицами современной ему истории, если таковые случайно возникнут в воображении почтенной публики. Пустое зубоскальство – единственная скромная цель автора». Во второй картине данная цель достигается тем, что драматург заставляет сыщика регионального управления безопасности Аглямутдинова допрашивать пойманную муху «с пристрастием». Диас Валеев с нескрываемым удовольствием описывает этот допрос, очевидно, вспоминая давние беседы на «Черном озере». На крики прибегает начальник Запупейкин и сообщает, что у них наконец-то появилось настоящее дело: им поручили достать из-под земли сбежавшего из подземного бункера Ворвачева и доставить в центр живым или мертвым (последнее предпочтительнее). Мы уже писали о давнем отношении Валеева к КГБ, который при Ельцине переименовали в Федеральную службу безопасности, ликвидировав в нем печально известный «пятый отдел» по борьбе с инакомыслием. В своем «Чужом» автор представил основания подозревать эту вечно изменяющуюся по названию (ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ), но не меняющуюся по своей карательной сути организацию в том, что именно она устанавливала в его доме «прослушки», тайно делала обыски и перлюстрации. Игра с огнем для Диаса Валеева, кажется, всегда была удовольствием. Во всяком случае, оно читается в машинописном заявлении «К сотруднику некой организации», которую он в 80-е годы держал в своем письменном столе, а после подшил в третий том своего домашнего архива. Там автор благодарит незваных визитеров за внимание и за тот порядок, в какой они обычно при тайных обысках приводят его разбросанные по столу бумаги. Герою нашего повествования однажды стало известно, что на него в КГБ собрали уже несколько томов донесений и документов, поэтому он до сих пор не оставляет надежды заглянуть в них когда-нибудь одним глазком. Прежде всего, чтобы узнать правду о своем испанском происхождении, которую родители унесли в могилу. Однако на «Черном озере» ему упорно отвечают, что никаких томов они не собирали. В третьей сцене Мария соблазняет выспавшегося гостя, заодно звонит своему любовнику… Аглямутдинову, чтобы доложить, дескать, поймала для него чудную птичку. Заметим, в этой хулиганской пьесе не только много говорят о сексе, но и занимаются им (разумеется, в соседней комнате). В этом можно увидеть дань раскрепощенному постперестроечному времени, но усматривается тут и сознательная жанровая установка. Фарс вообще штука грубая, шутки ниже пояса для него всегда были характерны, а тут еще есть повод позубоскалить над государями на полную катушку! Почему бы срывание шутовских масок с личности, некогда облеченной высшей властью, не довести до снимания с него штанов? Здесь очень трудно балансировать на грани фола, однако фарс позволяет просто игнорировать эту грань, чем Диас Валеев в своих «зубоскальских целях» и занялся с явным удовольствием. Далее автор переносит нас в «ведомство субпланетарного сыска», где генерал Квакин (не он ли злодействовал в гайдаровском «Тимуре и его команде»?) и его помощник Горемыкин обсуждают, что делать с расползающимися по миру Ворвачевыми. Тот, что живет в столице на правах отставного президента, слишком много себе позволяет – выступает с лекциями за границей, комментирует происходящее в стране. Пора его укоротить. Другой сбежал из тайного подземелья в Поволжье. Из дальнейшей беседы субпланетарных сыскарей мы узнаем, что Ворвачевых не двое, а целых… семеро! И кто из них настоящий, выяснить уже не представляется возможным, поскольку занимавшегося их перемещением сотрудника ликвидировали. Тема двойничества доводится до абсурда: «К в а к и н (подходит к зеркалу, поглаживает свое лицо). А как ты думаешь, мы с тобой реальные люди? Или нас тоже когда-то кто-то давно подменил? Знаешь, я иногда думаю. Возможно, под видом людей планету уже давно захватили какие-то инопланетяне? А? Захватили же мы эту страну. И планету, возможно, кто-то захапал. Ты из какой планеты, Горемыкин? Из какого мира? Г о р е м ы к и н. Конечно, если мы постоянно кого-то меняем, то и нас, возможно, кто-то меняет. Я вот сегодня утром проснулся. Гляжу – рядом жена вроде лежит. Но смотрю и что-то не узнаю ее. Я даже хотел спросить, Самсон Самсонович, вы мне ее не заменили? К в а к и н. Нет. Вроде не давал такого распоряжения, Евсей. Может, только по ошибке? Но если ты недоволен женой, скажи, подай заявление…» Из постели – к иным мирам, чтобы снова опустить героев с небес на землю, – такой принцип построения взял за правило Диас Валеев при написании «Карликового буйвола». От картины к картине абсурд нарастает, возводится в степень… Во втором действии выясняется, что генерал столичной конторы субпланетарного сыска Квакин на самом деле работает на некого заморского покровителя – господина Титора. Тот приказал убрать всех Ворвачевых и положил трубку. А Квакин расплакался и признался Горемыкину, как сорок лет назад завербовал своего первого агента – первокурсника университета Ворвачева, надоумив его подпоить комсорга, разоблачить на собрании и занять его место. Так он двигал своего питомца от поста к посту, занимая и сам должности все выше и выше… Теории всемирного заговора и тайного планетарного правительства, как и сообщения об НЛО и пришельцах, в те годы тоже часто становились поводом для публикаций в прессе и передач на телеканалах. И как нельзя лучше подходили к задумке позубоскалить над всем и вся. Впрочем, сам Диас Валеев и сегодня считает, что в развале СССР повинны секретные мировые спецслужбы, а точнее, те, кто за ними стоит.
IV.5
Об абсурдистких тенденциях в «Несравненном Наконечникове» впервые написал литературовед Борис Сушков в книге «Александр Вампилов. Размышления об идейных корнях, проблематике, художественном методе и судьбе творчества драматурга» – первой книге о выдающемся иркутском драматурге, написанной о нем через семнадцать лет после его гибели. К сожалению, Сушков оценивал незавершенную пьесу Вампилова крайне скептически, считая ее «шагом назад», уступкой закшеверам: «Вампилов как художник гениально одаренный (теперь это можно утверждать с полным основанием) быстро развивался и эволюционировал. Освоив две сферы жизни человека – природную и социальную, что соответствовало двум этапам его творчества, он должен был, по логике вещей, прийти к их органическому синтезу, продолжая и развивая линию «Утиной охоты». Но этого не произошло. Надломленный упорным неприятием своих пьес инстанциями, не пускавшими их на сцену, пассивной, в основном выжидательной позицией руководителей театров, Вампилов отходит от своих прежних принципов изображения жизни. Его талант, встретив упорное сопротивление, начинает перегорать и горкнуть. Изумительная жизненная органика его творчества, которой мог бы позавидовать сам В.С. Розов, уступает место условной театральной органике, живые люди – театральным амплуа. С «Несравненным Наконечниковым», неоконченной пьесой – «водевилем в двух действиях с прологом и эпилогом», начинался новый Вампилов, новый, третий период его жизни и творчества, внезапно, трагически оборвавшийся в холодных водах Байкала в августе 1972 года». И далее: «Вампилов пытался выжить как драматург, изменив свою манеру письма, не изменяя своему призванию – служить правде жизни. Другого выбора у него не было. Когда правда жизни находится под запретом, когда вместо нее требуют от художника удобную для начальства схему… «Да ладно, ладно. Никто не заставляет меня писать пьесы, и, слава богу, не поздно еще на это дело плюнуть». Плюнуть он не плюнул, но такая обстановка вокруг его пьес мало способствовала творческому росту: «Прошлым летом в Чулимске» несравненно ниже «Утиной охоты», «Несравненный Наконечников» (судя по первому акту) – несравненно ниже «Чулимска» («Советская Россия», 1989). Такая точка зрения на эволюцию и закат творчества Вампилова нам кажется довольно спорной. Да, Вампилов начинал новый этап в своем творчестве. Увы, жизнь его трагически оборвалась, как это нередко бывает с людьми, собравшимися открыть новую страницу своей жизни. Так, наш учитель по мастерству актера Вадим Григорьевич Остропольский уже заказал контейнеры для переезда в Москву, где режиссер Владимир Портнов подыскал ему местечко в Областном театре, однако умер в Казани от рака легких перед самым отъездом… И все же, по сохранившей первой картине и началу второй, можно судить о «Несравненном Наконечникове» куда оптимистичнее, нежели сделал Борис Сушков. Возможно, история о том, как провинциальный парикмахер решил стать драматургом, на первый взгляд покажется водевильной, капустниковой, какой-то легкомысленно-пародийной. Однако первое же вчитывание дает основания предполагать чрезвычайно смелые и серьезные намерения автора. Начинается все неспешно и даже лениво. За окном стоит необычайная жара. Тот будний послеобеденный час, когда в старую парикмахерскую большого города никто обычно не ходит. Наконечников от нечего делать листает, позевывая, детскую книжонку. О том, как поссорились лев и крокодил. Зная вампиловскую драматургию, невольно начинаешь прислушиваться к частностям. Любая из них может оказаться тем чеховским «ружьем» из первого акта, которое, как верно заметил Борис Сушков, в финале должно выстрелить. Вот герой бреет одного из постоянных своих клиентов: «Н а к о н е ч н и к о в. Лев поссорился с крокодилом. Началась у них драка. Кто у них победил, как вы считаете? Д у т о в. Хм… Ну лев. Н а к о н е ч н и к о в. Лев? Д у т о в. Конечно, лев. Н а к о н е ч н и к о в (тоном превосходства). Однако победил крокодил. Д у т о в. Неужели? Но ведь лев посильнее будет. Среди зверей лев все-таки фигура. Н а к о н е ч н и к о в. Согласен, Николай Иванович. Лев – царь зверей. Однако победил крокодил». Эти навязчивые крокодильи повторы, помимо нагнетания абсурда, дают намек на предположительное сюжетное развитие. «Кто этот «крокодил», кто – «лев», что скрывается за этой символикой, при каких обстоятельствах крокодил побеждает льва, что ему помогает?» – вопрошает Сушков и не дает читателям ответа. Хотя ответ вполне очевиден. Все мы, дети советского времени, читали Корнея Чуковского, у которого крокодил Солнце проглотил. И настала сказочная тьма… Став же взрослыми, в годы перестройки, все мы читали, что «Тараканище» у того же Чуковского был сатирой на Сталина. Еще с крыловских басен мы привыкли к литературным персонажам животного мира. В первой же пьесе Лукман Самматов говорит про себя: «Лев пришел! Лев ушел…» Последнюю Диас Валеев удачно назвал «Карликовым буйволом» и заставил зрителей до самого финала искать ответ на вопрос из кроссворда всемирного «клуба эрудитов». Возможно, мы и не отыщем крокодилов в других сочинениях героя нашего повествования, но все же должны признать, что в жизни двум «Ва» хватало крокодилов-закшеверов. И если Александр Вампилов, как мы предполагаем, собирался в «Несравненном Наконечникове» каким-то образом коснуться этой больной для себя темы, насколько это мог считать дозволенным в те глухие застойные времена, то Диас Валеев, также много пострадавший от местных и столичных закшеверов, как только рухнула советская империя, решил отоспаться на этих «крокодилах» за двоих!
IV.6
Пока Горемыкин с доктором Левитиным ликвидируют вернувшегося из-за границы двойника экс-президента, настоящий Ворвачев в Поволжье обрабатывается Запупейкиным и Аглямутдиновым. Для начала бывшему генсеку показывают ориентировку столичного уголовного розыска на рецидивиста Вшивякина. Якобы тот, пользуясь определенным сходством с бывшим главой государства, натворил немало дел и разыскивается в связи со зверским убийством своей приемной матери, которую предварительно изнасиловал. И светит ему либо пожизненный срок заключения, либо психушка – тоже пожизненно. Припертого к стенке человека вводят в транс, вынуждая давать необходимые показания, наконец, предлагают ему новую политическую интригу – возвращение к власти. Сцена разработана в точном соответствии с аристотелевской формулой «смены счастья и несчастья». Провинциальные сыскари задумали рискованную игру: они подготовили для пресс-конференции новоявленного «патриота-освободителя» текст выступления, а также проекты указа о введении в стране чрезвычайного положения и обращения в ООН. «В о р в а ч е в. Это игра в Лжедимитрия! Нет, ни в коем случае! Что с ними происходит потом?! Мне сейчас ничего не нужно. Получать пенсию, существовать на каком-то более или менее приличном уровне, отвечающем в некоторой степени моим прежним привычкам… А г л я м у т д и н о в. Я – не могу! Объясните этому дураку, Захар Филиппыч, что всем в высшей степени наплевать на его привычки. З а п у п е й к и н. Если вас устраивает роль рецидивиста, пожалуйста! Но говоря о том, что Вшивякину грозит суд или пожизненное пребывание в психушке, я был не совсем точен. Уголовник Вшивякин, убийца и растлитель малолетних, будет случайно застрелен при задержании. И эта неосторожность случится уже завтра». Ворвачеву не оставили выбора. Он раздавлен. Сыскари дают время подумать до завтра. На ночь в конспиративной квартире за ним присмотрит агент особого назначения Мария, которая мечтает занять место первой леди страны вместо «той Нинки», что сейчас жирует в столице… Конечно, такие крутые повороты судьбы – от трона до тюрьмы – возможны только в фарсе, и все же с этого момента триллер «Карликовый буйвол» начинает окрашиваться в зловещие тона «самозванства» не в карикатурно-кукольном, но в трагически-реальном свете. Невольно ловишь себя на мысли, а может быть, переворот в стране, даже такой большой, как наша, действительно, возможно осуществить с такой водевильной легкостью? Женщина быстро находит ключ к сердцу мужчины – и вот уже наутро Ворвачев готов сыграть новую политическую игру. Особое место в этой кульминационной сцене отведено цитатам из пушкинского «Бориса Годунова». Ворвачев просит почитать ему классику, которая его вдохновляет. И Мария (а за нее, конечно, автор) находит к месту: «Но знаешь сам: бессмысленная чернь Изменчива, мятежна, суеверна, Легко пустой надежде предана, Мгновенному внушению послушна, Для истины глуха и равнодушна, И баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага» Последняя строка очень понравилась Ворвачеву, он действительно полон отваги. А Мария читает ему монолог Марины Мнишек, готовая так же как польская красавица, разделить с самозванцем неверную судьбу. Тут можно увидеть не только авторскую попытку довести в хулиганском трагифарсе накал страстей до классических высот, но и показать сквозь призму событий начала XVII века объемный, вневременной характер конфликта человека и власти. Во все века люди выступают лишь марионетками на метафизическом шабаше властолюбия, порой не зная, под чью дудку пляшут, кто на самом деле дергает за ниточки и заказывает музыку. Однако поволжских заговорщиков ждет страшный удар. Точнее, удар случился с Ворвачевым, который от бурного секса, коньяка и предвкушения повторного президентства вдруг падает в ванной без сознания. Медицинская помощь ему уже не нужна. Троица сидит над трупом в шоке. «А г л я м у т д и н о в. Такой великий замысел испортил, кретин. Такую тонкую игру сломал, мерзавец! (В раздражении пинает ногой дверь). М а р и я. Шелапутный какой-то. Я думала, буду вместо его лярвы. Не вышло. З а п у п е й к и н (не выдерживая). Сама ты хорошая лярва! Вот так совершается мировая история, Аглямутдинов. Иногда из-за какого-нибудь пустячка все летит к чертовой матери А г л я м у т д и н о в. Однако, что делать будем? З а п у п е й к и н. Как что делать? Разыграем первый вариант. Выкажем лояльность к начальству. Мария, орден хочешь или медальку?» Троица доставляет труп в столицу, чтобы получить от Квакина вознаграждение за доставленного «живым или мертвым» двойника. В последней сцене всемогущий Титор на другом конце провода благодарит Квакина за успешную операцию по ликвидации лже-Ворвачевых. Советует оставить одного из пятерых оставшихся двойников, подсадив его к жене экс-президента. «Г о р е м ы к и н (посмеиваясь). Однако везет и супруге. Все время обновление. К в а к и н. Да она и не замечает, когда мы ей меняем кавалера. Г о р е м ы к и н. Кого же оставить, Самсон Самсоныч? Может быть, вы их посмотрите сами. К в а к и н. Хочу лично проститься. Хотя, возможно, настоящего Ворвачева уже нет в живых? Действительно, я старый сентиментальный дурак. Но вдруг я узнаю своего ученика? Я бы хотел сохранить ему жизнь. (Помедлив). Давай, заводи по одному». Генерал понимает, что и его в любой момент могут убрать со сцены… И прощаясь с Ворвачевыми, он уже и сам не различает, кто из них настоящий, более того, не может поручиться, настоящий ли он сам. Мотивы самозванства и двойниковости вызывают эффект мнимости происходящего. В конце концов, сыскари узнают ответ на вопрос из кроссворда всемирного «клуба эрудитов»: карликовый буйвол – это аноа. А что за символ зашифровал автор в этом диковинном звере? Буйвол – сильное могучее животное, сродни быку (так ныне зовут не самого большого пошиба бандюков), но более величественное и непреклонное. С прилагательным «карликовый» – все эти значения становятся уродством и посмешищем, как крошка Цахес (инсценировку этой повести Гофмана я тоже приносил в «Литмастерскую», и Диас Валеев ее одобрил). Возможно, автор имел в виду и другие значения. Но может, символ тем и хорош, что не требует дешифровки?
IV.7
В период работы над последней пьесой Диас Валеев завершал труд всей жизни – философский трактат «Третий человек, или Небожитель». Возможно, девять утренних часов работы над «Карликовым буйволом», который оставалось лишь спросонья надиктовать супруге, было лишь развлечением для писателя, занятого серьезным исследованием? С другой стороны, результаты этого исследования не могли не отразиться в пьесе. Очевидно, автор относил свой трагифарс не к реалистическому, а к символистическому стилю. Впрочем, я не профессиональный философ, поэтому аназилировать универсалистские концепции Диаса Валеева самостоятельно не взялся бы. К этому мы привлечем мнение доктора философских наук Георгия Куницына. Он преподавал историю философии в Литинституте, когда Валеев там учился на ВЛК. Нам тоже посчастливилось слушать его блестящие лекции. Начинались они с того, что в аудиторию заходили два молчаливых человека, затаскивали огромный катушечный магнитофон, устанавливали на трибуне микрофоны и включали запись… Как и академик Ажажа, Георгий Иванович считался самым авторитетным исследователем аномальных явлений и иных миров с позиций марксизма-ленинизма. Цитировать Куницына в повествовании о драме диасизма тем более уместно, что послесловие к книге Диаса Валеева «Три похода в вечность» он написал в форме философских диалогов: «Сам по себе факт, что писатель проникся идеей не только эмоционального, а и логического познания сути художественно-эстетического аспекта жизни человечества, не может не вызывать чувства одобрения. И уважения. По правде, не припомню, чтобы кто-либо из писателей ставил перед собой столь грандиозную цель. «Моя задача, – пишет Д. Валеев, – дать схему общего рисунка движения человека, обозреть целое, попытаться единым взглядом охватить всю историю, как бывшую, реализующуюся, так и возможную, «проективную». Иными словами, автор попытался как бы подержать земной шар в своих руках, да покрутить его, словно глобус… Настораживает, однако, вот что: об уже найденных, до Д. Валеева, общих закономерностях, о попытках других авторов «единым взглядом охватить всю историю», которых было множество, Д. Валеев почему-то даже не упоминает. «Пульсация стилей, железный ритм, качание маятника занимает не ограниченный период в мировой истории. Вся история от ее истоков – это четко прослеживающиеся безостановочные волны ритма», – настаивает эссеист на центральном пункте своей концепции. А думается, было бы справедливо отдать дань уважения хотя бы древним грекам: они-то видели в ритме основу порядка в мировоздании, чтили пропорции и вообще всякую вселенскую меру, выводя из нее даже и космический закон гармонии. Уже Пифагор исходил из цельности и системности мироздания. Аристотель свел античное знание в единую систему как знание именно о мире. У древних при этом находилось в их системах место искусству. Более того, они видели идеал жизни в том, что искусство и есть жизнь в целом. Здесь корни идеи искусства как «жизнеустроения». А учение Вико. А учение Канта, а учение Шеллинга, а Гегеля – об искусстве… А ныне мы получили удивительное по глубине исследование А.Ф. Лосевым становления человеческого духа в его западноевропейском варианте от античности и до нового времени… Меня, естественно, заинтересовала также и скрытая полемика против положений, которые я отстаивал в лекциях, когда их слушал Д. Валеев. Это далеко не единичные взгляды. Согласно им не надмировой ритм определяет развитие искусства, а жизнь самого общества. Более того, искусство – это одно из существенных проявлений именно жизни, а не колебание полностью таинственного «мирового маятника». Что предлагает Д. Валеев? «Мой постулат, – пишет он, – саморазвитие бытия и мышления человечества, производящее во взаимодействии с внешним миром на разных временных этапах мировой истории определенный стиль жизни, который, в свою очередь, в процессе человеческой практики выражается в создании определенных форм экономической деятельности, верований, научного знания и искусства». Общечеловеческое, тем не менее, не существует в дистиллированном виде. Давайте без утаек. В 1980 году вышла моя монография «Общечеловеческое в литературе». Там эта проблема – худо или бедно – прослеживается от древности до наших дней. С изложенной там позицией можно соглашаться или нет, но если она проигнорирована автором эссе, то я не могу рассматривать этого иначе, как определенный вызов… «Нужен взгляд общемировой, – пишет Д. Валеев. – Нужно отождествить себя с целым. С всемирным и всевременным человеком. С этой точки зрения я и хочу взглянуть на искусство и историю человека…» В известном смысле это возврат к первобытному мировосприятию. Дерсу Узала говорил: «Все – человек, белка – человек, ты – человек, дерево – человек. Все – человек…» Мне тоже думается, что люди все-таки действительно придут в своих взглядах к синкретизму, но не к первобытному же, не к упрощению… Д. Валеев строит в эссе свою систему «ритмов». Делит искусство всего на два направления, и весь его «ритм» сводится к чередованию этих всего лишь двух направлений. По принципу маятника… Между тем деление искусства на два направления обозначено уже в древности. В частности, у Аристофана в «Лягушках» идет гениально вымышленный спор между Эсхилом и Еврипидом за звание величайшего поэта в загробном царстве: первый из них характеризуется, в сущности, как «символист», а второй – как «реалист»… Между прочим, у К. Маркса и Ф. Энгельса выделены такие же две ведущие тенденции: «идеализация» (через всякую символику) и «типизация». К первой тенденции они относили, в частности, Рафаэля, а еще ранее как раз Эсхила, а ко второй – Рембрандта, Шекспира, Бальзака. У нас в советском литературоведении подобную концепцию развивал В. Днепров. В чем-то аналогичный взгляд отстаивает ныне А. Гулыга, называя тоже две тенденции: одну – «типизацией», другую – «типологизацией». А. Гулыга обозначает обе эти тенденции во времени и пространстве, указывает и на их «слипание» (термин Д. Валеева), в то время как казанский философ сводит проблему к взаимосмене основных этих направлений лишь во времени. Ему важен «ритм», а не соседство и взаимодействие, взаимопроникновение. «Своя периодическая система, подобная менделеевской, – пишет Д. Валеев, – есть, видимо, всюду, не только в мире химических элементов, и понять ее структуру, те начала, на основании которых она строится, предположим, в искусстве, в высшей степени любопытно». Итак, оттолкнувшись от идеи мирового ритма, наш автор пришел к идее создания «таблицы Валеева» для… искусства? Против красоты замысла не спорю, но посморим, что человечеству предлагается. Таблица Валеева выглядит так. Все искусство (наряду с тем, что оно «качается» во времени по закону «мирового ритма») в пространстве делится не на две, а на три категории, каждая из которых в любой данный момент (одновременно с другими) входит или в «символический» стиль, или в «реалистический». Эти три категории: «супер-классика», «классика» и «а-классика». Читаем: «Супер-классика: объект ее изображения весь человек, человек в полном объеме, то есть и мега, и макро, и микрочеловек. Но преимущество, предпочтение, особую любовь суперклассики отдает изображению мегачеловеческих проявлений в человеке. Классика: ее специальность – в основном изображение человека национального, классового, «типового» для каких-то крупных социальных групп; не пренебрегает она и изображением микро-человека. Мегачеловек ей недоступен. Она его не знает. А-классика: «зона» ее художественного освоения действительности ограничивается наблюдениями только микрочеловека. Мега и макро- составляющие духа – вне пределов досягаемости и интереса такого искусства». Как видим, таблица «элементов» Д. Валеева исключает из большого искусства самую многочисленную ныне часть художников – тех, кто изображает «маленького» человека. Согласно его взгляду, величие художника зависит от величия духа изображаемого им героя… Уже и школьники избавились от подобного, а Д. Валеев… пытается внушить, в качестве идеала, схему «суперличности». Этой «суперличностью» автор упорно меряет талант художника. «Мерой соотнесения произведения какого-нибудь автора к тому или иному классу искусства является для меня не столько степень мастерства, т.е. больше или меньше развитой чистой «технической способности к живописанию мира (без этого вообще не может быть разговора), сколько наличие у творца духовной силы». Вот когда реально превращается в альфу и омегу всего нашего бытия изречение гениального Сократа: «Осознай самого себя». Само право говорить и писать свободно – ведь это и есть первая необходимая ступень к истине. Вторая ступень: «Путь к истине сам должен быть истинным» (К. Маркс, т.1, с.7). Этим и объясняется, почему я столь бескомпромиссно высказываюсь о концепции глубоко уважаемого мною Д. Валеева. Наш с ним откровенный и честный диалог – воплощенное для нас обоих равноправие. Это диалог, между прочим, ученика и учителя. Возможно, учитель более консервативен, чем ученик… И все же так ли неизбежна преимущественная правота именно учеников в подобных спорах?» (Татарское книжное издательство, 1990). Цитата, возможно, затянувшаяся, но уж больно красноречивая. Пусть спорят «посвященные»! Нам же важно, что размышления о пульсации всемирного всевременного ритма, о двух художественных стилях, их чередовании и слипании – в результате притянули в сферу сознания художника парадоксальный и глубокий замысел трагифарса «Карликовый буйвол». И хотя в триллере, на первый взгляд, нет суперменов, никто из персонажей фарса не пытается дотянуться до уровня мегачеловека, кажется, автор этим не слишком озабочен. Как и у Гоголя в «Ревизоре», пусть положительным героем здесь выступает смех зрителей. А читателям достаточно того, что в роли «Третьего человека», или «мега-я» в данном случае выступает сам автор. Думается, это пошло лишь на пользу пьесе.
IV.8
Диас Валеев заканчивает своего «Карликового буйвола» потрясающей сценой финала в финале. В кабинет к генералу Квакину врывается спецназ и прекращает представление. Оказывается, пока шел спектакль, в стране произвели переворот. Здание театра оцеплено, у мужчин проверяют документы, автоматчики бесцеремонно выталкивают всех из зала. Никаких поклонов, цветов и оваций… «ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА: Только на улице или даже у себя дома зритель должен понять, что произошло в театре. Поэтому – никаких уступок мелкому тщеславию, никаких выходов на сцену. Из театра зрителей выпроваживает спецназ. Действие трагифарса заканчивается на улице, где почему-то звучат выстрелы…» С желанием напугать, кажется, драматург переусердствовал. Сначала Натан Израилевич Басин отказался от идеи постановки этой пьесы (дирекция Александринки после т а к о й заявки, кажется, больше не приглашала его на постановки). Пообещали напечатать трагифарс, но потом по непонятным причинам побоялись его публиковать в «Правде» – некогда главной газете страны, а ныне захудалом и почти всеми забытом органе КПРФ. Заинтересовались, но без объяснения причин отказались и в некогда прославленном Санкт-Петербургском БДТ. Одним словом, с постановкой «Карликового буйвола» дело не заладилось. Впрочем, это автора не особо огорчало, он посчитал свою миссию выполненной, напечатав «триллер» на собственные средства, разумеется, мизерным тиражом, распространив по крупнейшим библиотекам страны (те же Ленинка в Москве, Некрасовка в Питере, Лобачевка в Казани). Через несколько лет он получил письмо от неизвестного актера: «Уважаемый Диас Назихович! Хочу поблагодарить Вас за необыкновенную пьесу «Карликовый буйвол» и сообщить, что 8 апреля 1996 года на сцене Вятского государственного технического университета состоялась премьера ее постановки, с чем Вас от души поздравляю как режиссер этого спектакля. Передают Вам свои поздравления и студенты электротехнического факультета, которые вместе со мной работали над постановкой в рамках ежегодного университетского фестиваля «Студенческая весна». Ваша пьеса принесла большой успех электротехническому факультету и вообще произвела фурор на фестивале. Все члены жюри на обсуждении, которое проводится вместе со студентами, говорили не столько о находках и недочетах спектакля, сколько о том, какие мысли возникают от увиденного. Спектакль никого не оставил равнодушным, а это было самым дорогим. Эту пьесу для постановки предложила нам заведующая литературной частью театра Яковлева, кстати, Изольда Викторовна передает Вам большой привет и благодарит за внимание к нашему театру. После первой же читки пьеса завоевала наши сердца, и мы с воодушевлением взялись за постановку, о чем и не пожалели. Интересное сценическое решение предложили главный художник нашего театра Ирина Лаптева и художник-постановщик Александр Бурков. Действие спектакля происходит в палате психиатрической больницы, где у каждого персонажа своя койка со знаменательным инвентарным номером (1905, 1917, 1937, 1985 и т.д.). В палате установлены телефоны правительственной связи (на одной тумбочке), и бутылки с самогоном, запрятанные в валенки (возле другой). На бельевых веревках, приколотые прищепками, сушатся простыни с желтовато-грязными разводами, приглядевшись к которым, можно угадать границы некогда огромного могущественного государства, растащенного на куски. В определенные моменты действия «пациенты» обращаются к простыням, как к разорванной карте, продолжая ее деформировать и все больше искажать очертания границ. Обслуживающий персонал больничной палаты время от времени переодевают пациентов то в офицерскую или генеральскую форму, то в больничные халаты. Это создает ощущение, будто всем правят сумасшедшие, манипулируя остальными, как куклами, которые лежат рядом на тумбочке. Но в финале оказывается, что это лишь игра в сумасшедший дом, удобная для создания хаоса и неразберихи. В финале «правители-кукловоды» скидывают свои маски «пациентов», заменяя одну «куклу-президента» на другую, хаос и неразбериху на диктатуру и террор. Финальная «Песня о Родине» И. Дунаевского («Широка страна моя родная») – единственная песня на фоне всей музыкальной компьютерной абракадабры в спектакле – прозвучала как крик израненной души великой России. Портретный грим Ворвачева был выполнен заведующей гримерно-пастижерным цехом театра Ольгой Корзоватых. Образ Леонида Сергеевича и его двойника решен на полном портретном сходстве и пародийной узнаваемости, что придавало некоторым сценам ощущение нелепости и даже трагедийности. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут. Все сцены шли в строгой последовательности, сохраняя композиционное построение пьесы, которое как нельзя лучше определяло и сквозное действие спектакля. Спектакль снят на видеокассету. Второе эстрадное отделение начиналось с конферанса всем известных и любимых кукол: Буратино, Мальвины и Пьеро, которые косвенно продолжали начатую в первом отделении тему кукол и кукловодов. Прошу прощения за пространное письмо, но мне очень хотелось дать Вам представление о том, как на сцене реализована Ваша пьеса. Конечно, спектакль наш, наверное, не шедевр, но мы очень хотели соответствовать авторским устремлениям и остаемся в надежде, что нам кое-что удалось. Подтверждение тому – горячий студенческий прием, успех, в который мы, без ложной скромности, верили, берясь за эту замечательную пьесу. Спасибо Вам, Диас Назихович, за Ваш талант. И удачи Вам в последующем творчестве! А «Карликовый буйвол» непременно завоюет профессиональную сцену! Мы все в это верим. С огромным уважением – Владимир Караваев, актер Вятского театра драмы и комедии» (15.01.1997). Согласитесь, получать такие письма всегда приятно, особенно если в родном городе ты находишься под всеми уже забытым запретом.
… до «Я»
Александр Вампилов не дописал свой водевиль абсурда, возможно, потому, что понимал: сюрреалистические веяния в СССР всегда будут под запретом, как «чуждые» советскому театру буржуазные выверты. Ровно через двадцать лет Диас Валеев написал свой трагифарс в духе сюрра и абсурда, когда российскому театру, зациклившемуся на любовании собственным постмодернизмом, все это было уже «по барабану». Мир, сошедший с ума, не заметил его яростной абсурдистской сатиры из нашей совсем недавней жизни. Впрочем, окружающий мир всегда относился к Валееву странно. Восемь спектаклей по его пьесам были насильственно приостановлены или запрещены. Четыре раза неизвестные угрожали ему убийством, дважды предпринимались попытки упрятать его в психбольницу. При этом в глазах общества он представал эдаким везунчиком, несправедливо обласканным судьбой. Сам он считает, что мегасоставляющая его духа настолько выламывалась из обычного ряда, что обывательская среда имела основания для его неприятия. Из «Литмастерской» Диаса Валеева вышел добрый десяток членов Союза писателей, в том числе и автор сих правдивых строк, однако многие из бывших его учеников теперь считает, что своим становлением обязаны исключительно себе самим. Нашлись среди них и такие «мастера», кто в малом либо по-крупному предал своего наставника. Тем не менее, многим именно Диас Валеев помог с изданием первых книг или с выходом первых публикаций. Как говорится, Бог им судья. Как я уже писал в предисловии этого повествования, которое подходит к концу, творчество Диаса Валеева никогда не было мне лично близким. Не в восторге от сочинений своего учителя были многие подмастерья его «Литературной мастерской». Кто-то обижался, что в числе первых, кому Валеев помог с выпуском первой книжки (пропуском в ряды Союза писателей) была и его дочь Майя. По счастью, я был всегда далек от этих закулисных толчищ, поскольку мне не надо было издавать прозу (я ведь писал пьесы), а потому беру на себя смелость судить об этом непредвзято. На профессиональном уровне уже тогда работали Ахат Мушинский и Александр Осипов, поэтому их книги вышли в Таткнигоиздате тоже вполне заслуженно. И все же проза Майи Валеевой своей прозрачностью и объемностью заметно выделялась на пестром и таком неровном фоне «Литмастерской». Биолог по образованию, она и сейчас больше пишет про животных, однако в ее книгах, конечно, говорится прежде всего о человеке. Каюсь, в те годы ее рассказы я ставил выше отцовских рассказов. Но мой удел – драматургия, поэтому я не считаю себя большим ценителем в прозе. Ни тогда, ни теперь это не мешает относиться с благодарностью к учителю, который так много помогал мне в жизни. Уважение к человеку, считаю, не должно распространяться автоматически и на его творения. Равно и наоборот: талантливого шельмеца можно уважать за его произведения, что не обязывает нас подавать ему при встрече руку. Не от одного меня, но и от многих современников, словно облако каких-то предубеждений застилало истинный облик Диаса Валеева. Для татар он оставался чужаком, который пишет на языке колонизаторов. Русские тоже не признавали его своим – фамилия-то татарская. Еще сложнее было отношение к его проповедям. Еще бы, казанский пророк предлагает человечеству новое прочтение версии Бога? Что же, он ставит себя в один ряд с Заратустрой, Иисусом, Мухаммедом? Да по нему психушка плачет!.. Даже уйдя в некое добровольное затворничество, почти не показываясь никому, Диас Валеев продолжал вызывать непонимание. В самом деле, подозрительно, а что он там тихушничает, какие мысли (инакомыслия) высиживает, какие новые сюжеты вынашивает? И вот в конце девяностых Диас Валеев опубликовал роман «Я». Он писал его тридцать пять лет. Во всяком случае, первые наброски автор датирует 1962 годом. Так долго Валеев пытался сложить в единое целое разрозненные куски своих философских набросков, биографических записей и культурологических заметок. Пока, наконец, не нашел сюжетного приема, который позволял соединить в целостный художественный замысел чуть ли не все написанное и передуманное за всю сознательную жизнь. Действительно, Диас Валеев поместил в роман «Я» все излюбленные сюжеты, начиная от первого опубликованного рассказа «Вокруг земного шара». Как мы помним, этим рассказом он дебютировал на страницах «Комсомольца Татарии» в качестве прозаика. Эпизод, основанный на реальной житейской истории (очевидно, самого автора), стал и сюжетной завязкой первой его драмы «Сквозь поражение». Его он использует снова в своем первом (и последнем – всю жизнь писавшемся) романе «Я», чтобы познакомить своего героя-двойника Булата Бахметьева с Ниной Араповой. Тема двойничества возникает в романе, как и в «Карликовом буйволе», только на более высоком и глубоком уровне. Каждой из четырех частей романа автор предпослал предисловие, в частности, во втором из них подробно разбирается строение романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Действительно, если вспомнить, в знакомом всем по школьной программе романе автор знакомится с Печориным сначала по рассказам Максима Максимыча, потом тот знакомит лично автора и героя, уезжающего на войну в Персию, затем мы читаем дневник Печорина. Автор словно идет по следу героя, рассматривая его со всех сторон, пока мы не догадываемся, наконец, что они похожи, как близнецы… Примерно так же Диас Валеев строит свой роман о Бахметьеве, где самого себя выводит под своим именем в качестве одного из главных героев. Они учились на одном геологическом факультете Казанского университета, ходили в одно литобъединение при музее Горького, попали в одну поисково-съемочную партию в Горной Шории. А потом с Бахметьевым стали происходить страшные вещи. В реальной жизни они могли произойти и с Валеевым, попавшим в те годы на крючок КГБ. К счастью, в жизни автор избежал сумы и тюрьмы, зато пустил по кругам ада своего Бахметьева, который тридцать лет провел в следственных изоляторах, тюрьмах, лагерях. «… Бахметьев мой двойник. Его Я было словно моим Я. Но имелось между нами и отличие. Если я в раздумье останавливался перед водным потоком, он тут же бросался в него. Если я был на свободе, он пребывал в тюрьме. Если я останавливался в растерянности перед образом Либертуса, в частности из прямого страха смерти, он, не задумываясь, осуществлял этот замысел. Если я выдвигал идею нового Сверхбога, он не задерживаясь на этом, шел уже проповедовать его». Перед своим исчезновением в 1964 году Бахметьев передал Валееву на хранение рукописи. Разбирая черновики пропавшего друга, автор сам стал писать о нем роман-расследование, роман-воспоминание. Но разрозненные черновики никак не складывались в целое. Три линии сюжета никак не могли слиться воедино. Во-первых, это задуманная Бахметьевым-Валеевым сага о Либертусе и Люцифере – двух вечных антиподах, персонажах, сотворенных иерофантом Тотом, первым поэтом на Земле. Грандиозная эпопея из цикла романов «должна была быть сагой об их вечном спутнике – человеке, ищущем свое абсолютное «Я», свою действительную родину… Но как отлить этот грандиозный образ человека-космоса в слове?» Действие саги происходит и в доисторические времена в Египте, и в Древнем Риме, и в Париже времен Великой Французской революции, наконец, в Москве 2096 года! Последний антиутопический этюд в романе «Я» напомнил мне замятинский роман «Мы» и оруэлловские «1984», по всей видимости, эта перекличка не случайна. Во-вторых, Бахметьев задумал роман о своем отце, сгинувшем в фашистских застенках. Сын встречается с оставшимися в живых свидетелями, которые знали отца по подполью или могли быть повинны в его гибели. Тут роман Диаса Валеева переходит в драматическую форму, имитирующую магнитофонные записи бесед Бахметьева с предателями отца. И тематически продолжает его последнюю историческую драму «День Икс». Третьей линией романа стала история любви Бахметьева. В онкологическом диспансере под стенами казанского Кремля (там ранее была тюрьма, куда в 1887-м привезли после ареста Володю Ульянова, а в 1937-м уже отца Бахметьева) теперь умирает от саркомы его жена Гюльназ. Она не хочет ждать страшной мучительной смерти, поэтому просит Булата принести ей несколько упаковок различных снотворных препаратов… Причиной саркомы стала меланома, вызванная сильным радиоактивным облучением (тут мы тематически возвращаемся к драматической легенде «Вернувшиеся»). Но странное дело: пока я продирался сквозь хорошо известные мотивы творчества Диаса Валеева, свирепея от бесконечных повторов и скучая на многоречивой эссеистике, я не заметил, как судьба Бахметьева меня действительно увлекла и поманила за собой, как и самого автора. Взрыв озарения и катарсис сопереживания герою случился в четвертой части романа, когда Бахметьев через тридцать лет вернулся в Казань и посетил Диаса Валеева. Он уже знал, что обречен, чувствовал, что за ним охотятся агенты древнейшей тайной организации, которой не понравился роман о Либертусе – воплощении мечты по бесконечной свободе человеческого духа. И все же Бахметьев идет прощаться с Ниной Араповой, которая все эти годы ждала его в Лядском саду, как они договаривались во время своего давнего путешествия «Вокруг земного шара». Идет, чтобы сказать ей столько лет ожидаемое «я люблю». И погибает… И вот теперь уже Диасу Валееву снится сон о Либертусе. А мы вспоминаем, что говорил Бахметьев о сновидениях: это наша жизнь, свернутая вовнутрь (когда они разворачиваются вовне, в реальность, мы говорим, что сон был вещим), это выход в тонкие миры, где нас ждет иная форма существования… «Это был сон. Возможно, вещий. Проснувшись, я понял, что пора ставить в романе последнюю точку» – так заканчивается книга. Над заголовком «Я» знакомые за глаза подсмеивались, дескать, Диас Валеев в своем репертуаре – от скромности не умрет. Но я, дочитав роман, вдруг открыл для себя совсем другого Валеева! Двадцать лет каждый год я перечитывал «Мастера и Маргариту» – настолько был увлечен посмертным булгаковским романом… А теперь готов был сравнивать с ним «Я» – по глубине и масштабности замысла. Что и сделал, помнится, на страницах «Республики Татарстан». Тут и надо мной знакомые стали подсмеиваться… Между тем, только сейчас понимаю, чем меня поразил Диас Валеев. На мой взгляд, автору впервые удалось выразить свое представление об идеальном герое, создать художественный образ мегачеловека, причем не в теории, а на практике. Булат Бахметьев при всей своей необычности получился живым и объемным характером, которому начинаешь по-настоящему сопереживать. Увы, этого так не хватало его Мусе Джалилю, Володе Ульянову или Магфуру – пророку из казанского Заречья. С тех пор на творчество учителя я стал смотреть иначе, хотя далеко не во всем разделяю его религиозно-философские воззрения. И готов спорить, что мечту о свободе человеческого духа в новой Вселенской религии куда весомее и глубже выразили Даниил Андреев в великой книге «Роза Мира» или в своем строящемся Вселенском храме наш общий с Диасом Валеевым знакомый – казанский скульптор, мыслитель и целитель Ильдар Ханов. В противопоставлении божественного и дьявольского начал в человеке, как мне кажется, Валеев допускает внутренние противоречия, сущностные подмены. Оттого, наверное, и Люцифер в романе «Я» не стал таким ярким и выпуклым образом, как Воланд в «Мастере и Маргарите». Обидно, что таким же неопределенным остался образ Либертуса – он бродит тенью по странам и временам в поисках человека, жаждущего свободы, но не находит себе воплощения ни в одном из литературных произведений, как нашли его другие персонажи, вечные архетипы, сотворенные первым поэтом на планете – иерофантом Тотом, такие как Сизиф и Прометей, Дон Кихот и Дон Жуан, Фауст и Мефистофель, Великий Инквизитор и Скупой рыцарь, Мастер и Маргарита… Этот образ яснее воссоздается в «Сокровенном от Диаса», где Валеев уместил свои самые дорогие философские идеи в сто параграфов, таким образом, создав некий катехизис диасизма. Ни микро-человек, ни макро-личность не интересны Сверхбогу, нужно подняться до мега-уровня, стать богочеловеком, чтобы вступить с Ним в контакт, в диалог. Впрочем, о валеевской концепции опять пусть судит не дилетант, но доктор философии: «Как часто бывает, Диас Валеев оказался не одинок в своей идее, – пишет председатель казанского отделения МАИСУ Равиль Исхаков. – Казанский философ начала века Сергей Аскольдов, как отмечает сам Д. Валеев, подметил у русского человека «душу, которая представляет собой сочетание трех основных частей – начала звериного (животного – Р.И.), специфически человеческого и святого». Тут можно усмотреть традицию эзотерического учения о душе, как вечно эволюционирующей субстанции, которая последовательно проходит этапы жизни в атомах, минералах, растениях, животных, людях, богах. У С. Аскольдова душа человека содержит память о предыдущем воплощении (звериное начало) и последующем воплощении (начало святое, божественное). Вот и профессор И. Мочалов пишет, что Л.Н. Толстой в свое время «разделял развитие людей на три стадии: в первой центром является собственная личность человека, во второй этим центром является семья, общество, даже человечество, в третьей – бесконечность и сознание своей связи с ней. По мнению, Льва Николаевича, люди, считающие себя стоящими на третьей стадии развития, ошибаются, так как они в действительности еще продолжают находиться на первой. Они, может быть, умом и постигают бесконечность мира или его первопричину и связь с ним, но это у них еще не стало чувством жизни, поэтому невозможно передать это чувство или сознание тем, у кого этого чувства нет, – умом, теоретически его не поймешь и не объяснишь. Нужно реально чувствовать свою связь с бесконечным миром и любить его… Человек переживает три фазиса, – отмечает Л. Толстой и излагает свое понимание этих фазисов, по содержанию совпадающее в основном с характеристикой трех стадий развития человека, данной им в беседе с В. Вернадским и Д. Шаховским 19 декабря 1893 года». У Диаса Валеева три человеческих начала соответствуют трем типам людей, в историческом процессе своего развития как бы передающим эстафету друг другу. Близка и понятна попытка мыслителя типизировать человека по структуре сознания, в полном наборе которой можно выделить такие виды самосознания, как личное, семейное, коллективное, национальное, расовое, государственное, партийное, религиозное, планетарное, космическое. Понятно, в конкретном человеке все виды самосознания взаимодействуют, переплетены причудливым образом и, в свою очередь, объединяясь в человеческой природе в единое целое, вливаются в поток жизни Космоса. Мне нравится смелый тезис Валеева: «Я выдвигаю концепцию трех народов внутри каждой нации и, соответственно, трех культур». Воспринимать такую идею не просто, тем более, что трехкомпонентное видение структуры мира занимало умы Будды, Христа, Конфуция, Гегеля, Толстого, Рериха и других выдающихся личностей. Однако важно, чтобы такая схема всегда «срабатывала». Казанский мыслитель рассматривает Бога «не как творца Мира, а как его фундаментальную характеристику, недоступную возможно, анализу, но подлежащую изучению в идее как таковой».Диас Валеев отмечает, что основным содержанием нового тысячелетия станет «укрепление универсалистской формации, постепенное вытеснение со сцены мировой действительности форм жизни, созданных микро- и макрочеловеком, прорыв Земной цивилизации в космическое и запредельное пространства и установление контакта и связи со множеством иных цивилизаций, рост универсального мегачеловека в качестве новой социальной и духовной силы земной и околоземной жизни». («Республика Татарстан», 20.01.1996). Драма диасической драматургии как составной части творчества Валеева, на мой взгляд, состоит в том, что в другой стране, в ином столетии новое поколение читателей ее для себя еще не открыло. Да и неизвестно, откроет ли когда-нибудь. Возможно, она так и останется лишь страницей советской литературы, отечественной драматургии. Будут другие страницы, но эта останется вовеки. Разве уже одного этого мало? Что поделаешь, новой России не нужна литература. Только этим можно объяснить смешные гонорары, какие платят теперь писателям. Некогда преуспевающий драматург Диас Валеев, безбедно живший на поступления со спектаклей и на гонорары с книг (он сам признавался нам, молодым, что с выхода одной книги в Москве он с семьей может прожить два-три года), в начале девяностых вынужден был зарегистрироваться на бирже труда в качестве безработного, поскольку одиннадцать его попыток устроиться на какую-нибудь работу остались безуспешными. Но и пособие ему платили недолго – отправили раньше срока на пенсию. Уехала в Америку Майя Валеева, на родине ей не на что было кормить и учить сына – внука известного писателя. Выпускница биофака КГУ работает в научной лаборатории по специальности, кормит подопытных обезьянок. И кажется, ей это нравится. Наш друг по «Литмастерской» Евгений Сухов, успешно дебютировавший романом «Я – вор в законе» на страницах «Молодежи Татарстана» (не без содействия вашего покорного слуги, в то время заведующего отделом литературы и искусства в газете) и ставший известным писателем на российском рынке бестселлеров, написал уже около сорока книг, тем не менее, продолжает преподавать на геологическом факультете Казанского университета, защитил докторскую диссертацию. Ильдар Замалеев, тоже участник «Литмастерской», окончил курс знаменитого кинорежиссера Алексея Германа и получил приз Каннского фестиваля за лучшую короткометражку. Одним словом, литература для многих осталось любимым занятием… в свободное от основной работы время. Да и сам Диас Назихович теперь пишет редко, потому что часто болеет. Как он признался с горечью и самоиронией, уже лет пять нет на свете писателя Диаса Валеева в его мега-ипостаси. Давно ушло в какие-то иные измерения его макро-я. И теперь в маленькой квартире на улице Груздева одиноко доживает своей век лишь микро-человек Д.Н., которого Диас Назихович считает лишь литературным секретарем и душеприказчиком тех двух, уже ушедших навсегда. Последние годы Валеев занимался составлением Свода своих сочинений в семи томах. Пять из них в разное время выходили в Татарском книжном издательстве отдельными изданиями, без нумерации, в едином оформлении, различающемся лишь цветом обложки, скажем, три тома художественных произведений вышли в белом коленкоре, два философских – в коричневом. И непременно все они появились в авторской редакции, их тексты сам Диас Валеев называет каноническими. Остались неизданными только два тома – исторических статей и мемуаров. Их выход в свет был запланирован на 2008 год, к 70-летию писателя, но все откладывается. С писателем Валеевым, считает Диас Назихович, покончено безвозратно. Впрочем, возможно, когда-нибудь он что-нибудь еще напишет. Но уже под псевдонимом, совсем в другом ключе. Может быть, в духе своего скандального «Карликового буйвола». Или мистико-эротического романа «Астральная любовь», имевшего автобиографические корни. В общем, неожиданности еще будут. При этом Диас Назихович обычно посмеивается многозначительно, будто давая понять, что нечто в этом скандальном духе уже вчерне набросано. И он нам всем еще покажет!.. Недавно он передал мне на хранение свое «Последнее слово»: «По метрическому свидетельству я татарин, родной язык у меня русский, первая моя книга вышла на украинском языке, а сам я, возможно, испанец, – так начинается это завещание. – Впрочем, я ни в чем не уверен до конца. Может быть, все на самом деле обстоит и не так. Однако я никогда уже не узнаю это с предельной ясностью. Насчитывая седьмой десяток лет, я по существу до сих пор не знаю, кто я. Четыре народа тем не менее – татарский, русский, украинский и испанский – вправе считать меня своим писателем. Если захотят или если в том возникнет необходимость, продиктованная внутренним развитием этих наций и нуждой в дополнительной духовной опоре. Сам я себя считаю татарским художником». Далее Диас Валеев просит прощения у всех, кому причинил нечаянную боль. И сам прощает всех, кто нес ему зло. И наконец, объявляет последнюю свою волю: он просит руководство республики, а также нас, учеников, и всех кто придет к нему на похороны, ни в коем случае не закапывать его останков в землю: «Я не хочу и не могу годы и десятилетия находиться после смерти ни там, где полумесяцы, ни там, где кресты, православные либо католические, ни там, где пятиконечные звезды. В любом варианте это все – семитские знаки и символы. Я не семит. Я – приверженец религии Сверхбога, являясь Его вестником, проводником. Через меня в человеческий мир пришли новые представления о Боге. Эти представления диктуют совершенно иную форму ухода. Кроме того, я вообще не могу лежать в земле. Замкнутое пространство теснит мой дух. Религия Сверхбога опирается на древние традиции, домусульманские и дохристианские. Возможно, все-таки я тюрк, и мне близка стародавняя тэнгрианская формула ухода – через костер, через живое пламя. Я пришел в земной мир из инобытия и должен вернуться в него, не оставляя после себя следа, кроме близких моего рода и собственных книг». Далее Диас Валеев подробно расписывает ритуал своей будущей тризны. Он желает, чтобы пришедшие проводить его в последний путь улыбались, шутили, устроили небольшой фуршет возле пылающего пионерского костра. И чтобы книжные магазины организовали на похоронах выездную торговлю, а родные принесли из дома экземпляры его книг – для бесплатной раздачи. Герой нашего повествования запретил трупорезам-патологоанатомам прикасаться скальпелем к его телу. И предложил для самосожжения конкретное место в самом центре Казани. Он просит на четвертый день после кончины сжечь его тело на берегу Казанки, за Арским кладбищем, на том примерно месте, где схоронил его герой-двойник Булат Бахметьев в романе «Я» свою любимую Гульназ… Так пусть желание Диаса Валеева сбудется нескоро. Помоги ему в этом Сверхбог!
|
|
Драматический акт-шутка
Светлой памяти Зигмунда Фрейда
ДЕЙСТВУЮТ:
ТИММИ ИММИТ ОММА ТА, КОТОРАЯ… НЕБЕСНЫЙ СКРИПАЧ
Сцена являет собой большую супружескую постель. Но Автор просит не раздевать актеров донага. Автор этого не любит. ЧЕСТНОЕ СЛОВО. Портрет Антона Павловича Чехова и голос одинокой скрипки иногда проступают в пространстве этой пьесы.
ИММИТ. Тук-тук-тук! ТИММИ. Кто там? ИММИТ. Это я. ТИММИ. Что вам угодно? ИММИТ. Я пришел. ТИММИ. Кто вам нужен? ИММИТ. Ты спрашиваешь? Нет, ты серьезно? ТИММИ. Но позвольте… ИММИТ. Не позволю. (Осмотрелся). Устроился ништяк. Вкуса маловато. (Уставился на портрет жены). Жена? ТИММИ (чуть растерялся). Да… ИММИТ. Знаю. Ужасно некрасивая. ТИММИ. Но простите… ИММИТ. В другой раз. Ты сам говорил, что она ужасно некрасивая. ТИММИ. Я?! Никогда! Никому!.. ИММИТ. А себе? Себе самому? А? Лицемер! ТИММИ. Не ваше собачье дело. ИММИТ. Заблуждаешься, дружок. (Разглядывает, а потом примеряет плащ Тимми). ТИММИ. Я вам не дружок! И вообще – оставьте в покое мою одежду. ИММИТ. Ты уверен, что она твоя? Фу, какая гадость. (Бросил плащ на пол). ТИММИ. Это вам не гадость. Это мой плащ. (Любовно подбирает плащ). Приходят тут, понимаешь, всякие и еще начинают швыряться чужими плащами. А это мой… Мой! Мой плащ! ИММИТ. Разумеется твой. Чей он еще может быть? Кто, кроме тебя напялит на себя такую тряпку? ТИММИ. Я бы попросил вас!.. ИММИТ. Не надо. ТИММИ. Я бы попросил вас!.. ИММИТ. Бесполезно. Бесполезная трата времени. (Смотрит в упор на Тимми). И вот такое чмо мне досталось. ТИММИ. Что значит чмо? Я не чмо! Я уважаемый человек. У меня семья, дети. Да! Я служу, и меня ценят. ИММИТ. Служишь… Ты служишь, бедняга. Ну, ничего, это проходит. Это пройдет. ТИММИ. Что значит “пройдет”? Я не хочу, чтоб это проходило. Я хочу служить и кормить свою семью. ИММИТ. Да ты просто тяжеловес. Придется тебя изрядно протрахать. ТИММИ. Что вы хотите этим сказать? ИММИТ. Я уже сказал. ТИММИ. Вы сказали гадость. Извольте извиниться или… Или, хотя бы представиться. И вообще!.. Я затрудняюсь понять, какого вы пола? ИММИТ. Это имеет значение? ТИММИ. Имеет. Для меня, как для порядочного человека, пол имеет огромное значение. И, если вы… Вы не та, за кого себя выдаете… Я хотел сказать, если вы не тот, но та, то… ИММИТ. Я линолеум. ТИММИ. Что? ИММИТ. Я линолеум. Ты какой пол предпочитаешь? Паркет? Цемент с подогревом? ТИММИ. Я вас ударю. ИММИТ. Да ты просто клинический тип. ТИММИ. Я Тимми! ИММИТ. Какого пола? ТИММИ. Прекрасного! ИММИТ. Ну вот… ТИММИ. Мужчина я, вообще-то… ИММИТ. Да? А по тебе и не скажешь. ТИММИ. Нет, я точно, я точно вас ударю. Вот сейчас возьму и как дам! Будешь знать… ИММИТ. Это очень любопытно. Очень, очень любопытно. У тебя такой праведный взгляд. Ну что ты смотришь? Что ты смотришь? ТИММИ. Я убедительно прошу вас прекратить кривлянья. Я убедительно прошу. Я требую! ИММИТ. А я жду. Жду. Ты обещал меня ударить. Я жду с нетерпением и трепетом. Ну! ТИММИ. Но вы… Вы предложили мне такое… Вы кто такое сами? Вы!.. ИММИТ. Ну, ты же говорил, что ты мужчина. ТИММИ. Да, я мужчина. Я! Вот и прекратите, вот и отойдите, прошу вас. ИММИТ. Ты мужчина? ТИММИ. Я мужчина! ИММИТ. Так, ударь, хотя бы ударь, ударь хотя бы, ну! ТИММИ. Никогда! ИММИТ. Садист! ТИММИ. Все! Все, довольно! Известно вам, где в этом доме дверь? ИММИТ. А где она? Где? Где в этом доме дверь? ТИММИ. Где? ИММИТ. А где? Где она? Неужели в этом доме есть дверь? ТИММИ. Вон! Во-оо-он! Во-оо-он! (Вошла Омма) ОММА. Тимми, ты с кем? ТИММИ. Во-о-о-н! ОММА (увидела Иммита). Это вы?.. Вы?! Наконец-то! Это ты! Да, это ты. Я узнаю тебя. Я знаю тебя. Это ты! Ты… ТИММИ. Вон! ОММА. Тимми, ты сошел с ума. Это же он. Он. Он пришел. ТИММИ. Он? Ты сказала: он? Но это не он. Это она! ИММИТ. Я – она? Это я – она? Ты обо мне так в присутствии женщины? Извини, родная, я представлю ему доказательства. (Иммит наступает, Тимми отступает) ТИММИ. Какое доказательство? Что значит доказательство? Не надо мне вашего доказательства. Оставь его себе. Я не хочу никаких доказательств. (Пытается убежать). ИММИТ (гонится за ним). Хочешь. Хочешь! Иначе бы ты вел себя разумнее. ТИММИ. Омма, оно оскверняет меня своим присутствием! Она сумасшедший! Останови его! Убеди. Ты с ним знакома! ОММА. Остановись, родной. ИММИТ. Только из покорности тебе, родная. Только из покорности тебе я не добью этого идиота. ТИММИ. Откуда оно взялся? Омма, почему оно смеет так называть тебя? ОММА (весело). А почему он смеет так догонять тебя? ТИММИ. Откуда мне знать это? Оно пришло к тебе. Она твой… Приятель. ИММИТ (явно издеваясь). Лгунишка! ТИММИ. Да как вы смеете? Как вы смеете со мной в таком тоне? ИММИТ. Дурачок. Милашка. ТИММИ. Омма, откуда оно здесь? Надолго? Когда оно уберется? Я тебя спрашиваю, Омма? ОММА. Меня? Ты спрашиваешь меня? Ты серьезно? (Смеется). ТИММИ. Омма, не впадай, не надо. Остановись. Умоляю: прекрати. Вспомни, ты уважаемая женщина! ОММА. Насрать. ТИММИ (почти сражен этим словом). Омма, у нас семья, дети. ОММА. Заткнись! Заткнись! Я устала! Мне наплевать. Могу я раз в жизни наплевать на это? ТИММИ. Нет, не можешь. ИММИТ. Плюй. ТИММИ. Замолчи! Ты… Развратник. ИММИТ. А ты тупой. ТИММИ. Сам тупой. ИММИТ. Сам развратник. ТИММИ. Омма, мне это надоело. ОММА. Ты все перепутал, просто-напросто правда режет тебе глаза. ТИММИ. Правда? Откуда, правда? Какая, правда? То, что он сказал про меня, ты называешь правдой? Ты, которая знает меня от и до! ОММА. От и до, от и до, и до, и до… Не отрекайся, не отрекайся, не отрекайся. ТИММИ. Мне отрекаться? Мне не от чего отрекаться. Меня оболгали. ОММА. Не оболгали, не оболгали. Ты развратник. ТИММИ. Я не такой. Я не развратник. И ты это знаешь. ОММА. Дурак. Нашел, чем гордиться. ТИММИ. Нет, нет, только не ты… ОММА. Что не я? Что? ТИММИ. Кто угодно, они все, все они, но не ты, ты не можешь меня оскорбл-бль-бль-бл-бл… ОММА. Оскор… Что? ТИММИ. Оскорб-б-б… ОММА. Договаривай. Ну! ТИММИ. Нет! ИММИТ. Он не может. ОММА. Ты не можешь? ТИММИ. Да, не могу! Не могу! И горжусь этим! Горжусь! Горжу… ИММИТ (подхватывая). Горжу… Жу-жу-жу… Жу! Жу-у-равль. Журавль, журавушко подлетел к вашей крыше не реже трех раз в неделю и укутывал вас своими крылышками, и небо касалось вас, и в этом чудесном касании лишь дважды, Омма, дважды тебе удавалось принять в себя новую жизнь. Где оно, гнездышко теплое журавлиное кругленькое, уютное? Пусть он гордится себе собою. Не мешай дураку. Мы пойдем, радость моя, мы уляжемся в журавлиное гнездышко, мы увьемся, укутаемся друг другом… ТИММИ. Омма! И ты?.. Ты уходишь с ним? Так покорно, так молчаливо, Омма? ОММА. Кто-то что-то сказал? ТИММИ. Это я! Я кричу, Омма! Куда ты идешь? ОММА. Я не знаю, Тимми. ТИММИ. Вот! Вот, видишь! А человек всегда должен, просто обязан знать, куда он идет! ОММА. Это неправда, Тимми. Никто никогда не знает, куда он идет. ТИММИ. Надо пытаться, стремиться знать. ОММА. Нет, нет, не надо. Коровьи мозги можно с толком пожарить в сухарях, и получится пища. А твои, мои, наши мозги только и делают, что помогают нам сохранять равновесие на двух ногах. (Падает). А в остальном они бессильны. Они бессильны понять, отчего так сладко ничего не знать. Сладко, сладко!.. ТИММИ. А я говорю: нет, нет, нет! Я говорю: нельзя! Нельзя! Нельзя! В конце концов, вы в моем доме и здесь вам не панель. ОММА. Панель, панель, панель… О, панель! О, как я ненавижу этих продажных баб, этих развратных шлюх, этих покорных слуг мужской похоти, этих трудяг, потных и утомленных, изощренных и пресыщенных тварей… ТИММИ. Браво, Омма, браво! Я узнаю тебя! ОММА. А я ненавижу тебя! Ненавижу сильнее, чем посиневших проституток. Иммит, Иммит, я спалю себя ненавистью, я погибну и уйду к нему. Спасай меня, Иммит, спасай себя, спасай всех нас. ИММИТ. Я здесь, родная, я с тобой. Я погашу твою ненависть, помогу тебе простить их. Я с тобой и мы прорвемся. Мы отыграемся за всю твою жизнь, полную достоинства и лжи. ТИММИ. С кем ты уходишь? Кому ты веришь, Омма? Это человек сомнительной национальности. ИММИТ. Я? ТИММИ. Да! Ты! Оно еврей. ИММИТ. От негра слышу. ТИММИ (вопит). Омма! (И затихает. В нем не осталось сил). ОММА. Он дышит. ИММИТ. Эй, не дыши. ТИММИ. Буду! ОММА. Он так отвратительно дышит. ТИММИ. Я не дышу. Я, между прочим, задыхаюсь. ИММИТ. Подождем, родная. Он подыхает. Не будем ему мешать. ТИММИ. Я не подыхаю. Я задыхаюсь. От негодования. А, между подыхать и задыхаться есть огромная разница. ИММИТ. Он сказал, что он огромная задница и никогда не подохнет. ОММА. Никогда. А что в этом плохого? ИММИТ. Ничего. В общем-то, ничего в этом плохого нет, кроме того, что он вынуждает ему помочь. ОММА. Нет, нет, не надо. Заткни ему рот и достаточно. Пусть молчит. ТИММИ. Что значит “заткни”? Вы что себе позволяете? Я и без того молчу, тем более. ИММИТ. Что? (Пауза) ОММА. Он дышит. ИММИТ. Дышит, гад. ТИММИ. И буду! Принципиально буду дышать, у меня годовой отчет. Сегодня, завтра и вчера. Я должен отчитываться за всю подлость человеческую. Опять я, всегда я. Такой маленький и безвредный. Я бы отказался, я бы избежал, но… Но у меня злой начальник… ИММИТ. Все! Сам напросился. ОММА. Нет, Иммит, нет, не надо, тебе нельзя и ты не сможешь. Я сама. Потерпи, родной. (Омма подошла к Тимми) ТИММИ. Омма, Омма, ты? Я знал. Я верил в тебя. Если позволишь, я буду говорить. Можно, я буду говорить. ОММА. Говори, хороший мой, говори. ТИММИ. Я знал, Омма, что ты не дашь мне умереть. Что ты спасешь меня. Я знал. Честное слово. И вот ты здесь. Со мной. Моя. Ты моя? ОММА. Твоя, Тимми, твоя. ТИММИ. Я так устал сегодня. ОММА. И вчера, и завтра, и всегда. ТИММИ. Да, да, да я всегда отчитываюсь. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Один за всех. Ежегодно и пожизненно. Самый маленький и самый безвредный всегда один за всех. И только ты меня понимаешь. Только ты не сердишься на меня, только ты прощаешь. Одна за всех. Так понимала меня только мама. ОММА. Я стараюсь, я очень стараюсь, милый. ТИММИ. У меня отвратительный злой начальник. ОММА. Я помню, Тимми. ТИММИ. Я так ненавижу эту власть. ОММА. А кто же ее любит? ТИММИ. Ты завтра дашь мне денег на новый проездной? ОММА. Но разве уже пора? ТИММИ. На всякий случай, на всякий случай, Омма. Иначе они высадят меня из транспорта и поедут дальше. ОММА. Это ужасно, Тимми. ТИММИ. Они могут высадить меня между станциями метро. ОММА. Мне снилось что-то похожее. ТИММИ. Но они не высадят, они не посмеют, потому что ты дашь мне денег на новый проездной. ОММА. Обязательно, Тимми. ТИММИ. Ну вот, ну вот теперь я могу спокойно спать. Поспи со мной. ОММА. Я сплю, Тимми. ТИММИ. И, если этот негодяй еще раз прикоснется к моему прекрасному плащу… ОММА. Который я купила тебе в магазине уцененных товаров… ТИММИ. Потому что у меня отвратительный начальник… ОММА (подсказывает) … и потому что я отчитываюсь… ТИММИ. Один за всех. ОММА (продолжает за него). Всегда один за всех. ТИММИ. Так что, если он еще раз прикоснется к моему прекрасному плащу… (Тимми заснул) ОММА. …то он еще раз прикоснется, и еще раз прикоснется, и еще раз прикоснется… Но, если он еще раз прикоснется к твоему прекрасному плащу, он превратится в тебя, чмо болотное, и мне останется подохнуть от одиночества. ИММИТ (нелепо обмотался плащом). Нет, Омма, нет! Я никогда не превращусь в него. Если я превращусь в него, мы оба превратимся в ничто. И ты на правах вдовушки обретешь себе нового Тимми-Иммита. Дотопаешь до магазина, где продают Тимми-Иммитов, приглядишь на полочке подходящего-завалящего, сдуешь с него пыль… И он потихонечку начнет дышать, оживая… Но я никогда не превращусь! Пока ты любишь меня в этом дурацком плаще… Я не смогу превратиться в него, пока ты способна любить меня в этом дурацком плаще. ОММА. Я люблю тебя, Иммит! ИММИТ (он счастлив, он смеется). Потому что у меня отвратительный начальник? ОММА (смеется). Да! ИММИТ. И потому что мы ненавидим эту власть? ОММА. Да! ИММИТ. И потому что аист дважды свивал гнездо на нашей крыше? ОММА. Да! Да! ИММИТ. И потому что светит луна? ОММА. Да! ИММИТ. И потому что восходит солнце! ОММА. Да! ИММИТ. И выступает роса на траве, и смеются дети, и плачут лошади, и ласкаются кошки, и трубят паровозы, и падает снег, и молчат рыбы, и текут реки, минуты, часы, годы… Живут и мучаются люди… ОММА. Да! Да! Да! ИММИТ. И потому что ты прекрасна, Омма! ОММА. Нет, я уже немолода, немолода и некрасива. ИММИТ. Ты прекрасна, Омма! ОММА. Спасибо, Иммит. ИММИТ. Я люблю тебя потому, что ты прекрасна. (Иммит падает и умирает у ее ног. Просыпается Тимми) ТИММИ. Что такое? Что такое, в конце концов? Омма! Омма! ОММА. Я здесь мой хороший. ТИММИ. Где? Где ты? ОММА. Здесь, рядом с тобой. ТИММИ. Мне тревожно. Отчего мне тревожно? ОММА. Ничего, это бывает. Пройдет. ТИММИ. Мой плащ! Где он? Где? С ним ничего не случилось? ОММА. Вот он, вот. ТИММИ (обнимает плащ). Скажи, он хороший? ОММА. Очень, очень хороший. ТИММИ. Правда? ОММА. Правда. ТИММИ (вспоминая). Текут реки, минуты, часы, годы… Откуда это? Я забыл откуда это?.. И смеются дети, и плачут лошади, и ласкаются кошки… Странно… Тебе это нравится? ОММА. Очень. Очень нравится. Я где-то это слышала. ТИММИ. Скажи, Омма, скажи, так не может быть всегда Что-то должно случиться! Не молчи, Омма! ОММА. Что-то должно случиться, должно, Тимми, в конце концов что-то должно случиться. ТИММИ. Ты не нервничай, Омма. Не надо нервничать. Главное, не нервничать. Главное, научиться все переносить с достоинством. Если я просыпаюсь по утрам и хожу на службу, и отчитываюсь, и ем дешевые бутерброды, и предъявляю проездной, и терплю хамов в общественном транспорте, и боюсь начальника, и терплю, и боюсь, боюсь и терплю, терплю и боюсь, то…Что-то должно случиться! (Озарение). Дай мне завтра денег на лотерейный билет. Что-то должно случиться. Не может не случиться! Я чувствую. Что-то должно случиться! Иначе я им!.. (Грозит). Им всем!.. Да!.. Да! Да! ОММА. Что-то случится, что-то обязательно случится. Я тебе верю. Я сэкономлю на булочке и дам тебе денег на лотерейный билет. Не в этот раз, так в другой, что-то случится, обязательно, непременно случится и тогда… Тогда!.. Мы купим тебе другой плащ! ТИММИ. Почему другой? Тебе не нравится мой плащ? ОММА. Я не сказала этого, Тимми. ТИММИ. А что ты сказала? ОММА. Я сказала, что мы купим тебе новый плащ. ТИММИ. Ты не сказала новый, ты сказала – другой! ОММА. Да. Правда. Я сама не понимаю, что сказала, Тимми. Что я сказала? Что? ТИММИ. Ты сказала: другой! Другой! ОММА. А что случилось? Неужели что-то случилось? ТИММИ. А ты и не заметила? ОММА. Мы так долго этого ждали. И вот случилось. А что, что случилось, Тимми? ТИММИ. Нет, только не это, только не это. ОММА. Но почему, Тимми? Если случилось? Хоть что-то. ТИММИ. Если ты сказала “другой”, значит, тебе не нравится этот. А если тебе не нравится этот… Этот мой прекрасный плащ, значит ты меня в нем терпишь. ОММА. Все терпят, Тимми. ТИММИ. Все терпят, как я, а ты терпишь меня. Меня, Омма! ОММА. Это, конечно, так, Тимми, но это не так, это больше не так, чем так, это вовсе не так! ТИММИ. Так, Омма, так! Ты обманывала меня всю жизнь. ОММА. Ну, хорошо, хорошо, я признаюсь, я во всем признаюсь. Я терплю, Тимми, я терплю всю жизнь, но я терплю не тебя в этом плаще, этот плащ на тебе я терплю, Тимми. Да, этот плащ на тебе я терплю. Но все терпят. ТИММИ. Я бы поверил тебе, будь я конченым дураком, я бы поверил тебе и жил бы себе дальше. Но я не дурак! Я знаю, что дурную вещь на человеке терпят первые двадцать пять лет, а потом начинают терпеть самого человека. Это объективный закон! Это один из самых фундаментальных законов жизни! ОММА. Я выброшу его. Хочешь, я встану и выброшу его в окно? ТИММИ. Ты опять лжешь, Омма! ОММА. Я не лгу. Я сомневаюсь, но не лгу. И все же я думаю, у меня получится. Я смогу. Я посмею. Пусти. ТИММИ. Не смей! ОММА. Но, Тимми! ТИММИ. Не смей! Ты хочешь замести следы! ОММА. Где они, Тимми, где следы Я вижу только ножки. Мои несчастные ножки. Между прочим, они еще очень даже ничего, а ты притворяешься, будто не замечаешь. А это нехорошо. Обманывать нехорошо. Обманывать женщину вдвойне нехорошо. Разве мама не говорила тебе об этом? Не учила тебя твоя мама? А ее – ее мама, а ее – ее мама, а ее – ее мама. А ты взял и забыл. Ты не достоин своих предков, Тимми. ТИММИ. Я забыл. Забыл. Но почему я всегда забываю что-то очень важное? Что-то очень, очень, очень важное про тебя… (Мучительно вспоминает). Текут реки, минуты, часы, годы… Какая отвратительная фраза! ОММА. Прекрасная фраза. ТИММИ. Вот и попалась! Прекрасен мой плащ! А если верить в это, все прочие фразы могут быть только отвратительны. Ты попалась! ОММА. Какой ты умный, Тимми. Рядом с тобой я иногда чувствую себя такой дурой! ТИММИ. Я должен избавить тебя от этой неловкости. (Тимми запрыгнул на подоконник) ОММА. И все же я думаю неразумно выбрасывать тебя, Тимми. Намного разумнее выбросить твой плащ. ТИММИ. Чтобы я мерз по вечерам после работы? ОММА. Холодный, но зато живой. ТИММИ, Всегда холодный и всегда живой. Живой, но холодный? Ты хочешь устроить мне ад при жизни? Ты знаешь, прекрасно знаешь, что я не выношу холода. Я мучительно не выношу холода. ОММА. А сам стоишь на сквозняке. ТИММИ. Ерунда. Я не успею простудиться. Я успею долететь здоровым. ОММА. Разумеется. Ведь мы живем на первом этаже. ТИММИ. Даже в такую минуту ты стремишься мне досадить. Прекрасно знаешь, что мы живем на девятом этаже, а говоришь – на первом. ОММА. Но как мы можем жить на девятом этаже в пятиэтажном доме? ТИММИ. Вот так всегда! Вот так всегда! Только я почувствую высоту и ты… Все! Все, я больше не могу так. Прощай! ОММА. Какой ты вредный. Не доспоришь – и в окно, и всегда так, всегда. Потому что у тебя нет доказательств. Но в этот раз у тебя не выйдет. (Взошла на подоконник). Почувствуй на себе, как твой противник уходит в окно. (Смотрит на улицу). Что это? Какой ужас! Что это, Тимми? ТИММИ, Я тебя предупреждал. ОММА. И ты собирался выйти с девятого этажа? Тимми, я горжусь тобой. Но почему, почему ты всегда оказываешься прав? ТИММИ (гордо). Потому что мы живем на девятом этаже. Потому что весь мир живет на девятом этаже. Потому что текут реки, минуты, часы, годы… и гудят паровозы… и смеются дети… и ласкаются кошки… Ну, что ты привязалась ко мне? Что ты привязалась ко мне с какими-то кошками и паровозами? ОММА. Я больше не буду. ТИММИ. Правда? Ты больше не будешь мучить меня? Ты обещаешь? Обещаешь? ОММА. Обещаю, Тимми. ТИММИ (шепчет в окно). Она больше не будет. Она обещает. Спасибо, Омма. Ты меня уговорила, уговорила. Я остаюсь. (Тимми спрыгнул с подоконника) ОММА. Счастливо оставаться. ТИММИ. Что? Не смей! (Обнял ее ноги). Там холодно, ты простудишься. Посмотри, сама посмотри, какая там слякоть. (Выглянул в окно и отпустил Омму). Прости. ОММА. Что, Тимми? Что случилось? ТИММИ. Мы опять живем на первом этаже. ОММА (обреченно). Мы опять живем на первом этаже. ТИММИ. Не надо огорчаться. У тебя слабые нервы. Нервы не должны влиять на наше будущее. Спокойствие. Главное, спокойствие и выдержка. Выдержка и терпение. И тогда… Тогда обязательно что-то случится и мы… Мы!.. Мы переберемся на девятый этаж. ОММА (обреченно). Ничего не случится. ТИММИ (очень нервно). Я прошу тебя не нервничать, Омма! Очень прошу. Надо терпеть, терпеть, терпеть. Иначе ты все испортишь. ОММА. Ничего никогда не случится нигде. ТИММИ. И в этом будешь виновата ты, Омма. Только ты. ОММА. Ничего никогда не случится нигде и ни с кем потому, что настоящие мужчины всегда держат слово. Настоящие мужчины всегда выполняют обещанное. Всегда! Даже если их уговаривают не делать этого. Даже если они стоят на подоконнике девятого этажа. ТИММИ. Но где я возьму девятый этаж? Где я возьму это невероятное “всегда”, когда уже наступило “никогда”? Весь мир живет на первом этаже и ничего, живут и терпят, терпят и живут. ОММА. Но звезды. Звезды! Они есть… Их можно не только видеть, их можно даже слышать, Тимми. ТИММИ. Ты опять делаешь вид, что я тебе мешаю. ОММА. Их можно даже вдыхать… Вдохнуть в себя звездное небо и обрести невесомость… ТИММИ. Если даже я тебе мешаю, допустим, мешаю, то в этом виновата только ты. ОММА. Весь мир живет на первом этаже и в то же время выше, намного выше. Глубина ночного неба, она для всех, для каждого. Земля притягивает тело, а небо душу. ТИММИ. Между прочим… я… Я хочу жить, а ты мне мешаешь. ОММА. Где меня больше, Тимми, здесь или там? Где ты нашел меня, Тимми? Где ты обрел меня, здесь или там? ТИММИ. Я не знаю, я ничего не знаю, я знаю только, что я хочу жить. ОММА. Почему мне так хочется опрокинуться в эту звездную бездну? ИММИТ (воскресая). Но леденящий холодок вечности касается твоей кожи… ОММА. Спасибо, Иммит, спасибо, родной. ТИММИ. Я хочу жить! Жить! Вы что, оглохли? ИММИТ. Но леденящий холодок вечности касается твоей кожи… (Встретился глазами с Тимми). Ну что ты уставился, дебил? ТИММИ. А я, между прочим, вас презираю. Лично я, лично вас. ИММИТ. Извини, дурашка, извини. Не я оборвал тебе уши. Ты снова все перепутал и впутался туда, где тебя нет. ОММА. Сегодня такая безоблачная ночь, Иммит. ИММИТ. И леденящий хо… ТИММИ. Лодок, док, док! Ве, ве, ве… Меня, между прочим, есть! Еще как есть, в отличие от некоторых. И ты, Омма, знаешь это не хуже меня. Прекращай свои звездные фантазии и ложись спать. Все приличные люди давно уже спят. ОММА. Все приличные люди давно спят, давно и далеко, далеко и прилично… ИММИТ. Но холодок вечности касается твоей кожи, и ты летишь, проваливаясь в бесконечную незамкнутость пространств, и всем существом своим сливаешься с движением, не знающим пределов, и растворяешься в нем, и твое маленькое ничтожное “я”, распадаясь на пылинки, каждой клеточкой принадлежит космосу, проникает в него и познает его, ты перестаешь быть в себе, пребывая во всем, пока пылинки твои, испугавшись открывшейся им беспредельности, не сомкнутся в прежнее состояние, и не подбросят тебя тебе. И ты найдешь себя свернувшейся калачиком на огромной подушке бытия. (И тут все замечают, что на “огромной подушке бытия” лежит, свернувшись калачиком, ТА, КОТОРАЯ… ТИММИ и ИММИТ встают перед ней “стеной”). ОММА. Какие же вы дурачки. Смешные и неуклюжие. Я вижу ЕЕ. Я видела ее всегда, даже до того, как она, однажды, вынырнула из моей постели. ТА, КОТОРАЯ. Из нашей постели, подруженька, из нашей. ИММИТ. Извини, Омма, но та, которая проходит мимо, всегда кажется таинственнее… ОММА. И желаннее… ТИММИ. Но, в конце концов, Омма, ты ведь тоже иногда проходишь мимо, мимо кого-то и кто-то смотрит тебе вслед. ИММИТ. И в его душе, наверное, так же взрывается испуг оттого, что он никогда, больше никогда тебя не увидит. ОММА. И тогда леденящий холодок вечности?.. ИММИТ. Нет! ОММА. Но ты сказал “да”! Ты сказал “да” ей. А я всегда говорила “нет”, всегда и всем говорила “нет”, кроме тебя. Сколько раз я умирала и воскресала в твоих объятиях, Иммит! Но, однажды ты предал меня, посвятив в эту великую тайну ту, которая… ТА, КОТОРАЯ. Сучка! Элементарная сучка! Ты назвала меня сучкой, а мне понравилась эта кличка. Я с удовольствием нарядилась в нее. Ты когда-нибудь носила наряд из чужой ревности, беспомощности и злобы? ОММА. Ревности? ТА, КОТОРАЯ. Ревности. ОММА. Беспомощности? ТА, КОТОРАЯ. Беспомощности. ОММА (смеется). И злобы? ТА, КОТОРАЯ. Да, да, да! ТИММИ. У меня такой злой начальник, такой злой начальник… (Пытается укрыться одеялом). ОММА. А знаешь ли ты, как прилетает аист? ТА, КОТОРАЯ. Разумеется. ТИММИ. Нет, ну в самом деле, ну сколько можно? У меня годовой отчет завтра, трудный день… ОММА. Он прилетел ко мне и это мое тело, мое принимало в себя новую жизнь, а та, которая проходит мимо… ТА, КОТОРАЯ. … а та, которая проходит мимо всегда лежала между вами и ты сама призналась в этом. Я всегда была с вами, я не могла не быть и даже до того, как вынырнула из недр твоей постели. ТИММИ. Это невыносимо. Они не дадут мне уснуть. Они сошли с ума. А, если я не высплюсь? Что будет, если я не высплюсь, и меня высадят? ТА, КОТОРАЯ. Это страшно, Тимми. Если тебя высадят, это будет катастрофа для всех нас. ОММА. Смелее, девочка, смелее, если уж ты вынырнула, займи свою почетную пустоту рядом с Тимми, утри ему слюнки и постарайся простить, а ты Тимми, прости девочку, которая не прошла мимо. ТИММИ. Да, да, я всех понимаю и всех прощаю, и в первую очередь себя, се-бя, бя-се, бя-се, бя-се… бя! ТА, КОТОРАЯ. Успокойся, милый, успокойся. Ты дожжен выспаться. Ты должен проснуться бодрым и готовым на свой ежедневный подвиг. Иначе рухнет мироздание. ТИММИ. Оно рухнет, Омма, рухнет, стоит мне, в какой-то момент, захотеть навредничать и оно рухнет. Но оно не рухнет, пока у меня есть ты. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты понимаешь меня, Омма. ОММА. Он сказал: Омма? ТА, КОТОРАЯ (дарит Тимми проездной билет). Посмотри, родной, какой сюрприз я тебе приготовила. ТИММИ. Проездной! Новый проездной! Они меня не высадят. Не высадят, и мы будем жить! ТА, КОТОРАЯ. Закрой глаза, милый. Теперь открой. Это тебе, тебе, мой любимый. (Дарит ему лотерейный билет). ТИММИ. Ну вот, ну вот… Теперь есть надежда. Надежда. А жить с надеждой намного легче и веселее, правда, Омма? Спасибо тебе, спасибо за то, что ты не прошла мимо. Я высплюсь, я обязательно высплюсь и… И будет день! И вы проживете его потому что… Потому что я отчитаюсь… У меня хватит сил. (Засыпает). ОММА. Но почему он называет ее моим именем? Почему? ИММИТ. У тебя не другого имени, Омма. ОММА. Ты отвечаешь на мой вопрос, а смотришь на нее. Что происходит, Иммит? ИММИТ. Это ты, Омма. ОММА. Мы с ней абсолютно разные люди, абсолютно разные. Ты видел, как она только что поощряла идиотизм этого человечка? ИММИТ. Я… Я, кажется, завидую ему. ОММА. Не унижай меня, не унижай. Так просто и легко ты уходишь к другой женщине. Этого не может быть, Иммит. ИММИТ. Этого не может быть. Ты права. Этого не может быть. У меня нет другой женщины. Ты, только ты. ТИММИ (сквозь сон). И у меня нет другой женщины, а у вас, случайно, нет другого билетика, например лотерейного? ОММА. Нет. У меня нет больше ничего. Ничего. Даже этой постели. Даже эта постель не моя. Но аист? Наш аист, Иммит? Для чего-то он был. Был. ИММИТ. Он был. А потом… ОММА. А потом ты ушел, Иммит. ИММИТ. Но куда я ушел? Куда, Омма? ОММА. За ним. (Указывает на Тимми). Ты ушел за ним. ИММИТ. Это не имеет значения. Я спрашиваю: куда я ушел? Куда? ОММА (забралась на подоконник). У нас больше нет девятого этажа, и никогда не будет. ИММИТ. Да. Я ушел за ним, но я ушел к тебе, Омма! ОММА. И тебе было хорошо?.. Со мной?.. ИММИТ. Да. Я был далеко от тебя, очень далеко, но это вовсе не означает, что я не был с тобой. Я шел к тебе и нашел тебя. Я нашел тебя, Омма. (Иммит опускается в постель рядом с Той, Которая и обнимает ее. Просыпается Тимми и тоже обнимает ее). ТИММИ. Здравствуй, Омма. ОММА. Здравствуй, Тимми. Тимми здравствуй. ТИММИ. Омма? ОММА. А кто там, рядом с тобой? ТИММИ. Это ты, Омма. ОММА. Когда-то ты выбрал ее, споткнулся о нее, ошибся… А я назвала ее сучкой. Помнишь, я похвалила тебя за твой выбор? Помнишь, я сказала, что нашла лучше, чем у всех остальных. У нас лучшая сучка в мире, правда, Тимми? ТИММИ. Правда бывает разной. Иногда ее вообще не бывает, а та, которая, все-таки, бывает, никак не может понравиться женщинам. Правда, почему-то, всегда обижает женщин. Я не хочу обижать женщин. ОММА. Как ты мог такое сказать? ТИММИ. Я ничего не хотел сказать. Ты сама заставляешь меня сказать. А я больше люблю молчать. Тишину любят все, даже те, кто ее не любит. Тишина важнее правды. Это я понял, когда, поучив меня не лгать, вдруг, замолкала моя мама, а перед ней ее мама замолкала когда-то, объяснив, что лгать нехорошо. Объяснив, что лгать нехорошо, маме становилось неловко передо мной. Она, наверно, понимала, что сама лжет, когда говорит, что лгать нехорошо. ТА, КОТОРАЯ. Браво, Тимми! Ты достоин своих предков. ОММА. А тебя не учила твоя мама не встревать в чужие разговоры. ТА, КОТОРАЯ. Учила. Но я оказалась плохой ученицей. Разговор не постель, но все же влезть в него приятно, особенно, когда он чужой. Чужой предрассветный тепленький разговорчик. Ласкательно бестолковый, трогательно наивный… Так хочется влезть в него молча, всем телом и раствориться в нем… ОММА. Сучка! ТИММИ. Кстати, Омма, посмотри, что там видно в окно. Кажется, светает? ОММА. Что можно увидеть с первого этажа? А, когда-то, ты обещал… когда-то обещал… Иммит, Иммит, проснись, подари мне то, что ты обещал. Подари мне девятый этаж. Если он еще где-то есть, подари мне его, Иммит. ИММИТ (проснувшись). Я шел к тебе, Омма. Я всегда шел только к тебе… (Тимми накинул на него свой плащ) Я всегда шел только к тебе, но кто-то, кто-то прошел мимо, ну что ты привязался ко мне с этим плащом? ТИММИ. А ты уверен, что он не твой? ИММИТ. Да пошел ты!.. ТИММИ (предъявляет ему свой проездной билет). Видел?! ТА, КОТОРАЯ. Эта одежда тебе очень идет, очень идет, Иммит. Жаль только, что надо быть сильным, очень сильным, чтоб выдержать на себе такую ношу. ИММИТ, Не оставляй меня, Омма. ТА, КОТОРАЯ. Я люблю тебя, Иммит. ОММА. Я люблю тебя, Иммит. Но почему, почему только я хочу помнить, только я могу помнить о девятом этаже? ТИММИ. Это счастье, это великое счастье ни о чем не думать тридцать дней. Ни о чем дурном не думать и жить себе дальше. Жить и не боятся, и ездить, ездить туда-сюда, туда-сюда, и вообще куда вздумается… ИММИТ. А, вдруг, тебе вздумается съездить в Париж? ТИММИ (очень гордо). Мне не вздумается съездить в Париж. Я в отличие от некоторых не сумасшедший. ТА, КОТОРАЯ. Не мешай ему, Иммит, не мешай ему быть счастливым. ОММА. Гордится отсутствием желаний – это высшая гражданская доблесть, но ты обещал, Иммит, а, вдруг, мы переберемся, вдруг, я увижу рассвет? Говорят, его надо увидеть, сначала увидеть, и тогда он наступит… ТИММИ. Надо потерпеть, еще немного потерпеть, Омма. ОММА. Ну, хорошо, я потерплю. Я поживу пока здесь, на подоконнике, на самом краешке, здесь, рядом с самым рассветом. Когда близко, легче терпеть. ТИММИ. Ты устанешь, заснешь и вывалишься, а это смертельно. ОММА. Ничуть не смертельнее, чем жить здесь. Но вы живите, не обращайте на меня внимания, живите. ТИММИ (показывает ей лотерейный билет). У меня есть надежда. Есть. А с надеждой трудно умереть, Омма, очень трудно умереть, пока есть надежда. ОММА. Когда есть надежда, можно терпеть, пока она есть можно. А я не хочу больше спускаться по эту сторону окна. Но вы не обращайте на меня внимания, не надо. ИММИТ. Я не узнаю тебя, Омма. ОММА. И я не узнаю себя, Иммит. Я, наверное, удачно притворялась. Я же актриса. Притворяясь, я верю себе, и все мне верят. И выдумка становится правдой. Может быть, более важной, чем самая махровая правда. Я сама потеряла, где я, Иммит? ИММИТ. Ты прекрасная актриса, Омма. Я ненавижу твою профессию. Ненавижу зрительный зал. Когда они пожирают тебя глазами, я желаю им всем подавиться и сдохнуть в муках. ТИММИ. Мои сослуживцы никогда не сдохнут в муках. Они даже не знают, что в нашем городе есть театр. ОММА. Они мудрые люди. Когда не знаешь, легче терпеть. А я знала и терпела, Иммит, терпела и притворялась так удачно. И за все это мне не выпало в жизни девятого этажа. Даже такой малости. ТА, КОТОРАЯ. Вас просит женщина. Мне стыдно за вас. ИММИТ. Не надо путать девятый этаж и небо. Это не одно и то же. ОММА. Да-да, я что-то путаю. Когда тебя нет рядом со мной, я всегда что-то путаю. Когда ты живешь рядом со мной, я – другая, но когда ты живешь рядом с ней, наступает путаница и, в эти моменты, не надо смотреть на меня, не надо смотреть на меня, Иммит. ИММИТ. Но я никогда не живу рядом с ней. Я живу далеко от тебя, но это не означает, что рядом с кем-то. ТИММИ. Ну, в самом деле, Омма, далеко от тебя – это не рядом с кем-то. ОММА. Скажи мне честно, Иммит, только честно (указывает на Ту, Которая): кто это? ИММИТ. Это ты, Омма. ОММА (указывая на себя). А это кто? ИММИТ. И это ты. ОММА. Тебе не кажется, что меня стало многовато? ТИММИ. Кажется, что она держит нас за идиотов. ОММА (Той, Которая). Что ты сделала с моим Иммитом? Во что ты превратила его? Зачем ты напялила на него этот плащ? ТА, КОТОРАЯ. Я могла только любить. Я могла только то, что могла. ТИММИ. И сотворила чудо. (Той, Которая). Ты сотворила чудо, Омма! Я дал ему плащ! Потому что, в отличие от некоторых, я не стану никого доводить до белого каления, презирать и унижать. (Иммиту). Тебе не холодно, правда? ИММИТ. Еще издевается, гад! ТИММИ. А вот и нет! Ты всегда мечтал его поносить, я знаю. Но стеснялся сказать мне об этом. Ты смутно догадывался о главной мечте своей жизни. Вот и носи. Вон, какой, красавчик! Совсем как я! И не вздумай врать, будто тебе плохо. Иначе я тебя высажу! ОММА (Той, Которая). И ты терпела это? Это можно терпеть? Ты никогда не слышала о небе? ТА, КОТОРАЯ. Я могла любить. Это все, что я могла. ИММИТ. Я что-то слышал о небе. Что-то, когда-то… ТИММИ. И забудь. Забудь! Ты надел мой плащ, а я даже не сержусь. Ничуть не сержусь. Надо постараться быть благородным, Иммит. Попытаться со-от-ветствовать! И не мучить себя пустыми воспоминаниями. ИММИТ. Вот, вот… Сейчас он набьет мне карманы проездными билетами, замусорит мозги своими страхами, загадит душу терпением и я, как почетный гражданин страны терпимости поеду в тесном вагоне, стиснутый плечами, грудями, спинами, и до самых корней существа своего проникнусь, каким-то щемящим чувством невиданной общности, расчувствуюсь до слез и признаюсь в любви многотонной гражданке, которая в порыве нежных ласк, случайно выломает мне крыло, а потом со слезами на глазах, запечет его в духовке. Не пропадать же добру… ОММА. И ты успеешь подарить мне небо. Иммит, небо надо успеть подарить тому, кто способен его принять. А ты со своим человеколюбием… ТИММИ. Я же говорил, Омма, что ты сотворила чудо. Он со своим человеколюбием, на моем месте способен даже на большее, чем я! А ты, Иммит, пожалуйста, не притворяйся, будто тебе плохо. Ты готов нас разжалобить до слез. ИММИТ. Нет, нет, что ты? Мне хорошо. Сладость поедания жаркого из собственного крылышка несравнима ни с чем. Так сладко и тепло, и даже чуточку тревожно провожать минуты, часы, годы, и запивать разлуку вселенской сладостью покоя, покоя и увядания, увядания и небытия. Правда, от чего-то страшно. Непонятно, от чего? Но этот барьер преодолим. Достаточно напиться. Хорошо и основательно. Сегодня, завтра и всегда. (Тимми). Мы, иногда, с тобой сходились за бутылочкой. Вели себя достойно, мирно, и тепло. Где твоя заначка? У тебя она всегда есть. Без нее не прожить так же, как без проездного и лотерейного. Не жмоться. ТИММИ. Я не жмотюсь. Я не люблю тебя пьяного. ОММА. Я тоже не люблю тебя пьяного, Иммит. ТА, КОТОРАЯ. Но, когда ты смотришь мне вслед, я не могу не любить тебя, Иммит. ТИММИ. И вообще – пить нехорошо. Пить опасно для здоровья и для жизни. ТА, КОТОРАЯ. Даже Антон Павлович перед тем, как сказать: “Их штербе”, попросил бокал шампанского. ОММА. Он попросил бокал шампанского в последний момент, в самый последний момент своей жизни. ТА, КОТОРАЯ. Последний момент понятие растяжимое. Для кого-то вся жизнь – последний момент. ТИММИ. Вот поэтому Минздрав предупреждает! ИММИТ (двигается подобно слепому). Минздрав предупреждает! Госстрах гарантирует! Пролетарии объединяются! А нужна-то всего капелька вина, капелька, капелюшечка. Бывают мгновения в жизни, всего лишь мгновения, когда ты самому себе невыносим без кружки пива, рюмки водки, стаканчика, флакончика… Годовой отчет без пузырька муравьиного спирта? Это невозможно, Тимми? Так, за что, за что вы мучаете меня? Я выстоял! За всех отчитался. Всех вас вынес. Когда-то за это давали, хотя бы, флакончик стеклоочистителя, а без него нельзя, никак нельзя, просто смертельно… ТИММИ. Но Минздрав не дурак! Минздрав последний раз предупреждает! ОММА (спрыгнула с подоконника). Родной мой, хороший, чудный. Я люблю тебя, люблю! Вернись. Не уходи. Вспомни. Ты сильный. Сильный. ИММИТ (кутается в плащ, путается в нем). Они высадят меня. Высадят! Обязательно высадят. Они могут вышвырнуть меня между станциями метро. И пусть! Пусть попробуют! Тогда я им покажу! Да! Да!! Всем! Всем им! Всем до единого! Я снова истрачу зарплату на лотерейные билеты и тогда, тогда… Да! Они думают: я хочу выиграть? Просто выиграть и все? А на самом деле все не так! Все не так просто, как думают они. Я жду! Жду. Уже скоро. Очень даже скоро. Я чувствую. Прости, Омма, но у меня начальник дрянь и отвратительное правительство. Иначе бы все уже… Тимми, почему правительство такое отвратительное? Ответь мне, Тимми, ты должен знать. Ты сильный человек. Я не подозревал, какой ты сильный человек. Ты носишь в себе такое! Как можно носить в себе такое и не напиваться? Как можно ходить в таком плаще и не напиваться каждый день? Тимми, а может быть, это не я напиваюсь по вечерам, а ты? Может быть это не ты презираешь по утрам мою похмельную физиономию, а я твою? Я больше не буду тебя презирать, Тимми, клянусь тебе. Я был не прав. (Его трясет в лихорадке). ТИММИ. Прости меня, брат. (Подает ему бутылку). Выпей. ИММИТ. Коньяк? Откуда? ТИММИ. Толи выпал с неба, толи еще откуда-то? ТА, КОТОРАЯ. Нет, нет. Толи никогда не падает с неба. Он один раз упал с неба и с тех пор выходит из-за угла, всегда из-за угла, всегда неожиданно и всегда приносит вот такой вот вкусный коньяк. За это мы его прощаем, того самого Толи… ИММИТ. То ли это, то ли то… За тебя, Толи! (Выпивает). ТА, КОТОРАЯ. Тебе легче, Иммит? ИММИТ. Да, мне легче. Иди ко мне, родная. (Обнимает обеих женщин). ОММА. Выпей еще. Если это помогает тебе быть. Если это задержит тебя здесь, с нами, выпей. ИММИТ. Нет, нет… (Вспоминает). Нет, нет… Кто-то сказал: нет, нет… (Что-то ищет). ОММА. Что ты ищешь, Иммит? ИММИТ. Что-то. Я не знаю что. Что-то я хочу знать. Я должен знать. (Ищет). Нет, нет… ТИММИ. Ну, допустим, допустим, я сказал: нет, нет. ИММИТ. Точно. Это ты. Ты сказал: нет, нет. (Наступает на него). Я хочу знать. Я должен знать: откуда упал Толи? ТИММИ. Ну вот, ну вот. Нельзя желать невозможного. А ты пьяный всегда желаешь невозможного. Я не люблю тебя пьяного. ИММИТ. Откуда упал Толи? ТИММИ. Так, так, так… Стоп! Прежде чем выяснить, откуда он упал, надо выяснить, кто он такой? Кто? ИММИТ. Неважно. Это не имеет никакого значения ни для кого. Имеет значение только то, откуда он упал, откуда? ТИММИ. Ну вот, Минздрав не зря предупреждал! ИММИТ. Госстрах гарантировал, пролетарии объединялись… ОММА. Но текли реки, минуты, часы, годы. Выпей еще, Иммит. Выпей и успокойся. ИММИТ (смеется). Мне хочется неба! Мне хочется неба, а мне наливают конь-як. ОММА. Все, что могу, Иммит, все, что могу. Прости. Со мной ты не ел жаркое из крылышка. Я чиста перед тобой. Чиста. ТИММИ. Но ведь не только мы, не только мы… Многие хотели неба, хотели и не могли, а потом… потом привыкли к коньяку и ничего, живут. ИММИТ (прозревая). Эй, ты! ТИММИ. Я? ИММИТ. Да, ты! Я знаю, кто ты! ТИММИ. А ты мне не тычь, пожалуйста. ИММИТ. Ты линолеум! ТИММИ. Ну вот, наклюкался. А Минздрав, между прочим, предупреждал. ОММА. Он выпил всего два глотка. ТИММИ. Лучше бы он выпил пять глотков или всю бутылку. Он алкоголик, Омма! ИММИТ. Да, Тимми, да. Я всегда пьян, чаще небом, чем коньяком. У меня нет мужества быть трезвым. У меня нет мужества смириться. Я боюсь и потому умею летать. Ты должен простить меня за это. ТИММИ, Вот, если бы ты не обзывался. ИММИТ. Я постараюсь, Тимми. Я буду очень стараться. ТИММИ. Ты всегда обещаешь и всегда не сдерживаешься. ИММИТ. А кто хватает меня за ноги, когда мне хочется взлететь? Кто хватает меня за ноги? ТИММИ. Я не помню, но я больше не буду. Омма, но если я больше не буду хватать его за ноги, тогда он поймет, почему не может взлететь, тогда он поймет, что давным-давно сжевал свои крылья на жаркое. Пусть лучше он думает, что это я виноват во всем, что он не может взлететь, потому что я хватаю его за ноги. ОММА (запрыгнула на подоконник). Ты всегда хватаешь за ноги, ты никому не даешь взлететь. ТИММИ. Но я не виноват. Минздрав предупреждал… ИММИТ. Минздрав предупреждал, и пролетарии объединялись… ТА, КОТОРАЯ. И текли реки, минуты, часы, годы… ОММА. И молчали рыбы. ИММИТ. Но почему они молчали, почему? Почему они молчали до сих пор? ТА, КОТОРАЯ. Все думали: они безмолвны. Нет голоса. Никто не слышит. ОММА. Однажды, он сказал: “Люди, львы, орлы и куропатки…” ТИММИ. А вот и нет, а вот и нет! Не он сказал, он повторил слова другого, того, кто произнес их до него. Он повторил! ИММИТ. Он повторил, осекся и застрелил героя, которому отдал эти слова… ОММА. Доверил повторить их вслух. ТА, КОТОРАЯ. А, может быть, никто не должен знать? ОММА. И даже дети? ТИММИ. А дети спят. И хорошо. Это очень хорошо, что спят они. Никто не должен знать. Никто. И это хорошо. ОММА. И всем нам хорошо. И всем нам хорошо. Но это мое тело, мое дважды принимало в себя аиста. ТА, КОТОРАЯ. Я не в обиде на тебя. Я понимаю. ОММА. Я не хочу так. Я не согласна. (Кричит в пустоту). Так нельзя! Во мне есть “я”, такое маленькое, ничтожное, но мое! Мое! И, если в тех пределах обитания мне ничего не принадлежит, даже имя, если существо мое тех, невидимых пределов обитает еще в ком-то, кроме меня, если в этих видимых пределах, я не могу уверенно владеть ничем, кроме супружеского ложа, то почему, почему, почему из него, однажды, выползли клопы? ТА, КОТОРАЯ. Нет, нет только не это. Этого не надо. Я прошу тебя, не надо. ОММА. В один прекрасный день, в один ужасный день, в один невероятный день, самый неподходящий для этого день из твоей постели выползут клопы. ТА, КОТОРАЯ. Но если я не захочу этого. Если я не захочу? ОММА. Мы все не хотим, мы все не желаем, мы ждем не этого, но они неумолимы, они всегда приходят, они всегда приходят, они придут жить. ИММИТ. А где был я? Когда они пришли, Омма? Где был я? ОММА. Ты жил тогда рядом с ней. ИММИТ. Я никогда не жил рядом с кем-то, я жил далеко от тебя. ОММА. Вот тогда-то они и пришли. ТА, КОТОРАЯ. Когда они приходят, надо что-то делать. Что сделала ты, Омма, как ты спаслась? Я не знаю, я ничего не знаю. ОММА. Разум поможет устоять на двух ногах, потом… Ты увидишь, когда ты увидишь маленького красного сыто ползущего гада от детской искусанной ручки, ты сунешь его в случайную склянку и побежишь в больницу… ТИММИ. Не надо бежать в больницу. Его надо раздавить, вот так, двумя пальцами. Вот так, а потом вымыть руки с мылом. ИММИТ. Да, да, вот так двумя пальцами и только так, если раздавить его на пододеяльнике, или хуже того, на стене, останется кровь, наша кровь, и ее будет ничем не смыть. ТА, КОТОРАЯ. Но я не хочу давить его двумя пальцами. Не хочу! ИММИТ. Ты права, это не очень приятно, но человечество не знает иного выхода. ТИММИ, А, кроме того, это даже приятно, да, да, приятно, когда сознаешь, что его больше нет никогда, становится даже приятно. ТА, КОТОРАЯ. Не хочу, не хочу, не хочу! ОММА. А ты и не станешь этого делать пока. Ты отнесешь его в стекляночке лаборантам. ТА, КОТОРАЯ. Да, да, лучше так, лучше я им отнесу. ОММА. И они заржут над тобой, как тысяча коней и кобылиц. ТИММИ. Они не имеют права ржать, Да, Омма, ты была вправе сказать им это. ОММА. Но, правы оказались они, Тимми. Я попросила их исследовать клеща, который покусал моего ребенка. Клеща! Понимаешь, клеща?! ТИММИ, Ты могла ошибиться. У всех есть такое право. ОММА. А они, под гогот и топот копыт, сказали мне, что в моем возрасте следует узнавать клеща с первого взгляда. ТИММИ. Вот, вот, а если бы ты раздавила его двумя пальцами, если бы ты знала заранее… ОММА. Я давила их двумя пальцами, Тимми. Вернувшись домой, я откинула матрас и давила их десятью пальцами, ладонями, кулаками, локтями, ногами и всем, чем там еще можно давить… ТА, КОТОРАЯ. Не надо на меня так смотреть. Не надо. Я никогда не спала в вашей кровати. ОММА. Ты должна знать, девочка, что никаких пальцев, локтей и кулаков тебе не хватит, и дихлофоса, и даже того, что ты промоешь кровать и выветришь белье, ничего этого не хватит. ИММИТ. Но ты же победила их, Омма. ОММА. Уничтожила. За каких-то полдня я уничтожила этих несчастных тварей и, одурев от химикатов или от усталости, или от подлости, или еще от чего-то, я опустилась на голый пол посреди комнаты и сказала себе: вот это я и есть. Я какая есть. И казала ему… ИММИТ. Но я жил тогда далеко от тебя, Омма. ТИММИ. И кому же ты сказала, Омма? Кому? ОММА (Обращается к портрету А.П. Чехова). Лет, эдак, через несколько десятков после вас, будут жить люди… Люди… Вот это я, вся какая случилась на этом свете. ИММИТ. Но почему ты сказала ему? ТИММИ. Да, почему ему? Неужели больше некому было сказать? ОММА. Ты жил тогда далеко от меня, но это не меняло дела. Ведь это он, он позвал меня, давным-давно, когда я еще могла, могла быть. Он позвал меня, и я поверила ему. А в тот момент я хотела понять, просто необходимо было понять в тот момент… И никто, никто, кроме него не ответил бы на мой вопрос. ТА, КОТОРАЯ. О чем ты спросила его, Омма? ОММА. Я спросила его о том, о чем спросил бы на моем месте любой нормальный человек. Я спросила его: за что? ТА, КОТОРАЯ. В конце концов, этот вопрос вырывается из груди каждого человека, но разве есть на него ответ. Неужели кто-то может ответить на этот вопрос? ИММИТ. И он ответил тебе, Омма? ОММА. Да. Но прежде я напомнила ему о том, что когда-то, давным-давно я способна была, я умела радоваться жизни, солнцу, травинке, я была переполнена радостью и открыта навстречу миру, и мне казалось, мир ждет меня такую, способную любить и быть счастливой. Я стала актрисой, но разве могла я стать кем-то еще, когда так хотелось раздарить свое счастье всем и каждому, ведь душа наполнялась светом, я видела свет, я была переполнена светом, я летела в его чистоте и, казалось, что ни одна глухая провинция, ни зависть убогих людей, ни вечное штопанье колготок, ничто, ничто никогда не нарушит полета… Давным-давно и еще недавно, еще вчера, вернувшись с гастролей в свой коммунальный угол, я рада была уложить наших деток в нашу кровать. Они так устали от гостиничных коек, устали спать вдвоем на одной, всегда вдвоем на одной скрипучей ухабистой гостиничной койке. Я смотрела на них спящих и была счастлива, да, можно быть счастливой и тогда, когда твой неверный муж живет далеко от тебя, от твоего забытого миром городка, и никому не нужного театра. Вчера это было, вчера, а сегодня они выползли. ТА, КОТОРАЯ. Но почему сегодня? Он сказал тебе: почему не вчера, не завтра, не в начале жизни? ОММА. Нет, он молчал. ТА, КОТОРАЯ. Ну и пусть молчит. Пусть. Это хорошо, это даже прекрасно, что он молчит. Я не буду суетиться и нервничать. Я раздавлю клопа, как положено двумя пальцами. Тимми говорит, это даже приятно. ТИММИ. Ну не то, чтобы сразу. К этому надо привыкнуть, а потом, да, приятно и даже приятнее, чем я смею выразить. Но лучше осваивать это дело постепенно, последовательно. Начать с первого, не упустить первого и уже не останавливаться. ТА, КОТОРАЯ. Я постараюсь. Я не упущу. ОММА. Идущие за нами умнее нас. Она не станет нервничать и суетиться. Она решительней, она сильнее, она не упустит. ТА, КОТОРАЯ. Такие маленькие, такие чудненькие, такие человекообразненькие кровососущие твари, они едят нас маленькими порциями, даже не заметными порциями, и вовсе не смертельными порциями они поедают нас, а мы им прощаем, мы их жалеем. Они тихие, но настойчивые и скоро, очень скоро, очень скоро и незаметно для самих себя, мы поверим в то, что созданы им на откорм. Этого нельзя допускать и кто-то должен взять на себя эту неприятную миссию… ИММИТ. (Той, Которая). Кто угодно может, склонив голову, гоняться за клопами, но не ты, только не ты, Омма. ТА, КОТОРАЯ. Но почему, кто угодно, но не я, почему? ИММИТ. Надо дожить ТА, КОТОРАЯ. Вон, одна уже дожила. ИММИТ. Да. Она дожила. ТА, КОТОРАЯ. До чего? До чего она дожила? ИММИТ. Неважно. Важно дожить. ОММА. Но это не каждому дано, Иммит. К тому же это больно. ТА, КОТОРАЯ. Вот именно. А, если я боюсь боли? ИММИТ. Разве не обидно умереть на полпути? ОММА. Для того чтобы умереть, надо как минимум, быть живой. ИММИТ. Но она должна, дожить, Омма! ОММА. Это страшно, Иммит, это так страшно, сидя на холодном полу в коммуналке, понять, что жизнь, в сущности, прожита. И это все. Все, что могло случиться, уже не случилось и не случится никогда. И пусть ты считаешь, отпущенное тебе недостойным человека, недостойным человека вообще, но это все. Все! Это и есть ты. И это все! ТА, КОТОРАЯ. Я буду давить. Буду, буду, буду. ТИММИ. Дави. Дави сразу и не задумывайся. Так надежнее. ИММИТ. И все же ты не умерла, Омма. Я знаю, я точно знаю это! ОММА. Я не успела. Он сказал мне… ТА, КОТОРАЯ. Он, все-таки, сказал? ТИММИ. Еще бы не сказал… Но прежде я спросила его: ну, что, можно завидовать людям, живущим лет эдак, через несколько десятков после вас? ТА, КОТОРАЯ. И что??? ИММИТ. Что он сказал? ОММА. Он сказал: ты прекрасна, Омма! ТА, КОТОРАЯ. Тебе не послышалось? ТИММИ. Нет, нет, он соображает. Портрет, а соображает. Молодец! ОММА. Я не поверила ему. (Портрету). Вы ошиблись. Вы часто ошибаетесь. Простите, но вы бывали так очевидно неразборчивы. К примеру, ваш брак… Даже на самый поверхностный взгляд. ИММИТ. Не надо так, Омма. ОММА. Он тоже не дал мне договорить. Он прервал меня, он сказал: “Я люблю тебя, Омма”. ТА, КОТОРАЯ. Но этого не может быть, по крайней мере, не должно быть этого. ИММИТ (говорит вместо портрета). Я люблю тебя, Омма, потому, что могу любить только тебя. Но ты сама неразборчива, так неразборчива бываешь порой, потому наши браки, на поверхностный взгляд, нелепы… ТИММИ. Но, но! Повежливей с моей женой! А то я не посмотрю, что вы портрет. А я могу. Я смогу не посмотреть. И спрошу вас тогда, очень вежливо спрошу: “А где ваш проездной, товарищ?” Или позову сюда Вильяма Шекспира. Он войдет со шпагой и строго спросит: “Где страсть? Вы люди или ливерные пирожки? Где трупы, господа? А может быть все вы тут давно не живы?” ОММА (портрету). Простите его, простите, мы иногда бываем живы, иногда, но бываем. ИММИТ. И даже, когда нам наливают коньяк, мы все еще выбираем небо. Вы так и сказали ей тогда, он так и сказал тебе тогда: “Ты прекрасна, Омма, пока способна выбирать небо”. ОММА. Это мучительно, невыносимо, порой смертельно. ИММИТ. Но прекрасно! И пока ты прекрасна, он выбирает тебя. Будь достойна, Омма. Он уже выбрал тебя. Он ищет тебя. Он придет. ТИММИ. Опять все сначала. Опять какой-то “он”. Я не хочу. Я не люблю этого “он”. Нам и без него сносно. Не надо нам нового “она”. ИММИТ. Он идет не к тебе. ТИММИ. А я здесь весьма не посторонний. ИММИТ. Мы тебя спрячем. ТИММИ. Фигушки! Я буду противостоять! ТА, КОТОРАЯ. А меня, можно ему показать меня? ИММИТ. Он идет к тебе, Омма. Ты должна быть. Ты родилась, чтобы быть всегда. ТА, КОТОРАЯ. Я буду. Я постараюсь. Я не успела. У меня чистые руки. Посмотри. Если бы я успела, мне было бы не смыть, правда? Ну, посмотрите, посмотрите же! Я попытаюсь, я посмею дожить… ИММИТ. Иначе и быть не должно, Омма. Иначе все-все в этом мире потеряет цвет и смысл, если хоть самый маленький, самый ничтожный не доживет… ОММА. Упадут все портреты, а вместе с ними обрушится небо. Вот и все. А больше ничего не случится. ИММИТ. “Люди, львы, орлы, куропатка, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, – словом, все жизни, все жизни, все жизни…” ТИММИ. Мне страшно. ОММА. Тебе нечего боятся, у тебя есть проездной. ТИММИ. Все равно мне страшно. Кто-то идет. Слышите? Это Вильям Шекспир! ИММИТ. Сам накаркал. ТИММИ (спрятался под одеяло). Меня нет. Не показывайте меня ему. Он меня высадит. ОММА. Нет, это не он, Вильям Иванович сегодня не придет. ТИММИ. Но он обещал. Или мы обещали? ОММА. А он не придет. Не дошел. Заблудился. Запил. Дочку замуж выдает. ТИММИ. Но, если все же… Если все же, вдруг… Не показывайте меня ему. Не показывайте. Мне стыдно. ИММИТ. А он не уходил отсюда, он всегда был здесь, и всех нас видел, и хохотал, и от души всплакнул разок другой. ОММА. Но кто же это? Кто приближается? Я чувствую. (Кутается в одеяло). ТА, КОТОРАЯ. Тише! Он идет. Прислушайтесь. (Тоже кутается в одеяло). ТИММИ. Иммит, попроси его, пусть он поищет кого-нибудь другого. ИММИТ. Но он уже здесь. Он ищет нас. Он хочет сказать. ОММА. Он хочет понять: где замолкает рояль и начинается музыка? (Все внимательно ждут, ждут прихода по горизонтали, а над ними в зыбком луче света плывет одинокий скрипач и мелодия льется на землю) ИММИТ. Увидит нас и напугается. Напугается и скажет: “И это люди? Фу, какой ужас!” ИММИТ. Нет! Я знаю, что он хочет сказать. Он уже сказал. ТА, КОТОРАЯ. Что? ОММА. Что он сказал, Иммит? ИММИТ. Он увидел нас и сказал: “Остановись, мгновенье! ты прекрасно!” ОММА. Мучительно прекрасно. (Небесный гость со скрипкой опустился на постель и играет, играет, играет…)
КОНЕЦ
|
|
драматическая история в 2-х действиях (В печатном варианте журнала «Тобол» пьеса называется «Околдованные»)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ЛУКЕРЬЯ – 80 лет ГАЛИНА – 60 лет НИНКА – 40 лет ВАСИЛИЙ – 40 лет ИРОД – 30 лет ОКСАНА – 19 лет
Уютно живут Лукерья с Галиной. Дом еще крепок, а при нем дровяник и хлев, и даже баня – все под одной крышей. Яблоня у крыльца, под яблоней стол и скамейки. Огород в четыре сотки. Тихо тает летняя ночь. В кухне лампочка щетинится. Галина «колдует» над плитой. Вошла Лукерья из сеней, за дверной косяк спряталась, затаившись, выглядывает на Галину, крестится.
ЛУКЕРЬЯ /испуганно, тихо/. Свят! Свят! Свят! Чур, меня, чур! Свят! Свят! Свят! ГАЛИНА. Мама. Мам? Ты, что ли?
Лукерья затаилась. Галина зовет.
Буська! Бусый! Кыс, кыс, кыс! Бу-у-усь!
Нет ответа. Галина насторожилась. Лукерья выглянула из-за косяка. Смотрят друг на друга.
Мама ты чего? ЛУКЕРЬЯ. Гальке, ты чего ли? ГАЛИНА. Нет, не я. ЛУКЕРЬЯ /крестится/. Свят! Свят! Свят! Тьфу! Тьфу! Тьфу! ГАЛИНА. Ну, давай, давай, съезжай с ума. Только этого мне не хватало. ЛУКЕРЬЯ /вглядывается в дочь/. Гальке!.. ГАЛИНА. Руки вымой да вон хлеба нарежь, я пока огурцы выставлю. ЛУКЕРЬЯ. Откуда у меня силы-то, хлеб нарезать?
А сама тихонько подступила к столу, завладела ножом.
ГАЛИНА. Ну, чего встала, как джигит на Кавказе? ЛУКЕРЬЯ. Гальке, так это ты или не ты? ГАЛИНА. Мама, кто ж это может быть, если не я? ЛУКЕРЬЯ. А в бане свет горит, вода плещется. ГАЛИНА. Ну? ЛУКЕРЬЯ. Вот тебе и ну! От поросенков шла, гляжу: свет, слышу – вода. Думала ты в бане, а ты вона где! А там кто? Кто там, Гальке? /Крестится/. Свят! Свят! Свят! ГАЛИНА. Ой, батюшки мои, дожили! ЛУКЕРЬЯ. Вот тебе и дожили. Говорила неча к дому всяких привечать. ГАЛИНА. Да ты уж всех людей от дома отпугала. ЛУКЕРЬЯ. Каких людей? Кто путный к тебе пойдет? Одни локаши и ходят водку жрать. ГАЛИНА. А локашей ты где набрала? Во всей деревне три избы жилых осталось. ЛУКЕРЬЯ /ворчит/. Вот и я думаю: три избы жилых, а к тебе одни локаши ходят. /Вспомнила/. Гальке! Вы же с Нинкой в бане всю ночь прошуршали. Неужели она и в день колдует? Греха накопите, придавит он душонки ваши. ГАЛИНА. Нинка вон идет. ЛУКЕРЬЯ. Да что ж она, нечистая, огороды топчет? Дороги ей мало? У поросенка вон опять пописка загнила. Вчера глядела, вроде ранка запеклась, а сегодня к утру опять загнила. Теперь еще и без картошки останемся. ГАЛИНА. Так она ж промеж рядков идет. ЛУКЕРЬЯ. Да она хоть по воздуху лети, от нее одно истребление всему живому исходит. ГАЛИНА /подсказывает/. А потому, как локашка она. ЛУКЕРЬЯ. А ты не дразни мать. Сама знаешь, что не пьет Нинка. Колдует, потому не пьет. Им колдунам настрого заказано. ГАЛИНА. Кем заказано? ЛУКЕРЬЯ. Богом ихним, дьяволом. Других спаивать поощряется, вот, к примеру, тебя. А самим строгий запрет.
С картофельной гряды выпрыгивает Нинка.
НИНКА. Здравствуй, теть Галя. /Зябко потягивается/. Не жарко стало по утрам. ГАЛИНА. Август на дворе. НИНКА. Пятница, тринадцатое. /Заметила Лукерью/. Здорово, бабушка Лукерья, утра тебе доброго! ЛУКЕРЬЯ. Будет доброе, когда ты опять здесь. НИНКА. Чего, нездоровиться? Может травки заварить? ЛУКЕРЬЯ. Вон за ночь в бане наварили уже… НИНКА. Так то гадальная трава, не лечебная. ЛУКЕРЬЯ. Ты еще целебной навари – людей травить.
Галина выносит пакеты и кулечки с едой на улицу, начинает на столе под яблонькой укладывать их в большую сумку.
Гальке ты еду куда понесла? НИНКА. Так пятница сегодня, бабушка. Срок пришел дань платить. К обеду Ирод явится. ЛУКЕРЬЯ. Да ты глянь: чего она ему понесла. Одной тушенки три банки прихватила. Картошки побольше наложи для весу, да огурцов. Пошто тушенкой вымогателя потчевать? НИНКА. А как оголодает, да поросей твоих затребует? /Галине/. Че-то, теть Галь, ты в самом деле расщедрилась. ГАЛИНА. А у меня водки нету. Водка с тебя в этот раз. НИНКА. Так я не готовилась в таком раскладе. Одна бутылка у меня. Может Ксюха подвезет? ГАЛИНА. Подвезет – не подвезет. На нее надежда зыбкая. Поищи, Нинка, не жмись. НИНКА. Может, у бабки где что заначено? ГАЛИНА. Бабка так начит, что неделями гадаю. Не бабка, а сплошной ребус. ЛУКЕРЬЯ. Пошто опять мать обзывать вздумала? ГАЛИНА. /Указывает Нинке на тяжелую сумку/. Забирай. Водку поищи. НИНКА /оправдываясь/. Теть Галь, ведь я ему, зверю, всегда одну бутылку сверх общей нормы выставляю. ГАЛИНА. Что? Не найдешь?
Недолго смотрят в глаза друг другу.
НИНКА. Найду. Только ты это… Ксюха привезет, верни потом. А тушенку одну оставь. Не надо. ГАЛИНА. Да ладно, ладно. Только ты его спровадь скорей. НИНКА. Ой, это уж как заладится. Сама знаешь, он не управляемый. ГАЛИНА. А ты скажи: у поросей кожа гниет. Болезнь инфекционная, к людям липнет. ЛУКЕРЬЯ. Да типун тебе на язык! НИНКА /весело/. Скажу. ГАЛИНА. Скажи: у бабки нашей бешенство с утра. /Галина уходит в дом/. ЛУКЕРЬЯ /Нинке/. Нинка! Ты куда? НИНКА. Ирода встречать. У меня уже баня затоплена. ЛУКЕРЬЯ. А этого нам, что ли, оставляешь? НИНКА. Кого этого? ЛУКЕРЬЯ. Кого вы там за ночь в нашей бане начудили? Иди, забирай себе. НИНКА. Ты чего, бабушка, не проснулась еще? ЛУКЕРЬЯ. Так, поди, сама погляди.
Нинка к окошку бани осторожно приблизилась.
ЛУКЕРЬЯ. Ну, чего там? НИНКА. Свет горит. ЛУКЕРЬЯ. Плещется? НИНКА /прислушалась/. Плещется. /Вдруг удивленно/. Кто там? ЛУКЕРЬЯ. Я тебя спрашиваю: кто?! НИНКА /активно втягивает носом воздух/. Баня-то топлена. ЛУКЕРЬЯ /в тон ей/. Ты натопила что ли? НИНКА /растерялась/. Мы с теть Галей гадали только. ЛУКЕРЬЯ. Вот и нагадали. НИНКА. Может, приехал кто? ЛУКЕРЬЯ. На метле прилетел. До нас и днем уж сколько лет транспорт не пускают. НИНКА /испуганно/. Бабушка, кто в бане? ЛУКЕРЬЯ. Ты меня тоже за дуру держишь? Я что ли до утра там свечи жгла? НИНКА /прислушалась/. Плещется. /Пауза/. Во! Затих. /Пауза/. Плещется. /С надеждой/. А может это хомяки? ЛУКЕРЬЯ. Ага, хомяки. И баню затопили, и свет зажгли и воду льют хомяки. НИНКА. А что теть Галя говорит? ЛУКЕРЬЯ. Чего она путного скажет? Ей бы все мать дурой, да рексами обзывать. Ты загляни в окошко, загляни, может разглядишь чего? НИНКА. Занавешено. ЛУКЕРЬЯ. Может, щелочка где есть? НИНКА /изловчившись, находит просвет в занавеске и, заглянув захлебываясь воздухом, на цыпочках спешит уйти от бани поближе к Лукерье. В испуге выговаривает/. Во-ло-са-тый! ЛУКЕРЬЯ. Мужик? НИНКА /шепчет/. Не знаю, может и мужик. Живой, двигается. ЛУКЕРЬЯ. Рогатый? НИНКА. Не знаю. /Трясет ладонью возле груди/. Волосатый вот здесь, весь. Живой точно! Большой! Бабка, кто это? ЛУКЕРЬЯ. /Крестится/. Кто, кто? Верно: беса накликали. Еще одного нахлебника корми теперь. НИНКА. А они не едят. ЛУКЕРЬЯ. Ага, бодаются только. Может домовой от нас в баню переселяется? НИНКА. Сыровато там. ЛУКЕРЬЯ. Поди, проверь. НИНКА. Чего? ЛУКЕРЬЯ. Огурца ему отнеси. НИНКА. Еще чего?! ЛУКЕРЬЯ. Жрет он или не жрет? А если жрет, так может оно к лучшему. НИНКА. Кто ж его кормить-то будет? ЛУКЕРЬЯ. По совести, кто накликал, тот и кормит. Но прежде мы его на Ирода натравим. НИНКА. Зачем? ЛУКЕРЬЯ. Двух-то нам не прокормить. НИНКА. А с чего это ты, вдруг, сразу этого выбрала? Может он еще и похуже будет? ЛУКЕРЬЯ. Ясно дело: похуже, если черт, зато экономия от него. НИНКА. Это надо посчитать сначала. Ирод раз в месяц за едой ходит. А этого потом каждый день корми. ЛУКЕРЬЯ. Этот водку не пьет. На водке экономия, сама знаешь, какая! НИНКА. С чего взяла, что черти не пьют? ЛУКЕРЬЯ. А-то ты у нас пьющая? Поди, прикорми. НИНКА. А чего я-то? Чего я? ЛУКЕРЬЯ. Поди, порадуй гостя.
В соседний двор на мотоцикле лихо зарулила Оксана. Скинула с себя шлем, майку и азартно стала мыть лицо и тело из бочки для сбора дождевой воды. Нинка подходит к забору.
НИНКА. Явилась, Оксашка, да вся запылилась. Привет! ОКСАНА. /Снимает с мотоцикла две сумки, идет к забору./ Ну, здравствуйте. Слава Богу, вся деревня в сборе! Разбирай заказы! Так, хлеба по три буханки на душу. Кильки в томате, тебе, Нинка. Это вам, тетя Галя с бабушкой Лукерьей, тушенка, лосось, толстолобик тоже в томате, лобие – это, вроде, как наши бобы только в банке, все что заказывали? ГАЛИНА /тихо/. Вот за лобие спасибо? Остальное скинь, здесь, в травку. ОКСАНА. Иголки с нитками кто просил? НИНКА. Я. ОКСАНА. Держи. /Наклоняясь над второй сумкой/. Остального основного тебе сколько, Нина Петровна? НИНКА. Две. ОКСАНА. Принимай. ГАЛИНА /Оксане/. Ты мои здесь в траве оставь. ОКСАНА. Задачу поняла. Сколько? ГАЛИНА. Три. ОКСАНА /выкладывает в траву под забор три бутылки/. Запоминай, тетя Галя, где лежит. ГАЛИНА /Лукерье/. Мама, ты водки сколько заказывала? ЛУКЕРЬЯ. Я-то две. А сама сколько? ГАЛИНА. У меня сухой закон. /Несет Лукерье две бутылки/ ЛУКЕРЬЯ. Закон у нее. Уж я-то твой закон знаю. /Принимает из рук Галины бутылки/. За мной не ходи. Закон у нее! Ишь, хитрющая! /Уходит в глубь дома, опасливо оглядываясь на Галину/.
А Галина тем временем, убедившись, что Лукерья увлеклась поиском тайника, пошла прятать свои бутылки где-то в пристройках к дому. Оксана протягивает Нинке еще один пакет.
НИНКА. А это кому? ОКСАНА. А это вам дедушка Мороз передал к общему столу. Колбаса там, шпроты, конфеты - от меня подарок. НИНКА. /Ест конфету/. Ой, не-е, раньше шоколад вкуснее был. ОКСАНА. Только сами ешьте. Зверю не скармливайте. НИНКА. Хорошо тебе, Ксюха, теперь в райцентре жить. А мы тут терпим его да терпим. ОКСАНА. Ну, да, ты терпишь. Кряхтишь под ним и терпишь. НИНКА. Дура ты, молодая. Я может, тебя своим телом заслонила! ОКСАНА. Спасибо, подруга боевая. Только по сугробам зверь меня в мороз полуодетую погонял незабываемо. НИНКА. Так-то спьяну, спьяну, кто не дуреет? Главное ведь не случилось ничего. Обошлось. ОКСАНА. Обожглось. НИНКА. Ну, так не снасильничал ведь? Ты обратно-то, когда собираешься? ОКСАНА. Денька через два. НИНКА. Не уж по нам заскучала? ОКСАНА. По ухабам, по родным ухабам. НИНКА. Вовсе люди зажрались. Ухабов им в райцентре не хватает. Ксюх, тебе там видать хорошо платят? ОКСАНА. Мне не платят, Нина Петровна, я зарабатываю. А это принципиально разные вещи. НИНКА. Ксюха, а у нас ведь сегодня Иродов день. Столкнетесь, не задирай его. Силы-то в нем не меряно. Зашибет. ОКСАНА. У меня на любую силу бензина хватит. НИНКА. Вот и я говорю: чего тебе задерживаться? Передохни, да и езжай.
Лукерья вновь выглядывает в окно.
ЛУКЕРЬЯ /зовет/. Гальке! Гальке! /Нинке/. Ну-ка, где она затаилась-то?
Галина тем временем ходит от дома к столу под яблоней. Выносит, чайник, еду, посуду, потому принимает участие в беседе на ходу, эпизодически.
ГАЛИНА /огрызаясь, тихо/. Гальке… опять Гальке. Уже жизнь прожила, а все Гальке. ЛУКЕРЬЯ. Гальке, так ты в баню-то загляни. ГАЛИНА. Ну что туда заглядывать? ЛУКЕРЬЯ. Кого наколдовали-то? Нинка вон сама боится огурца ему отнести. НИНКА. Бабка, больше всех нас прожила, вот сама и отнеси. ГАЛИНА. К огурцу стопочку налить не забудьте. /Уходит в дом/. НИНКА /Оксане/. Ой, Ксюха! У нас ведь в бане кто-то нечистый завелся! ОКСАНА. В какой бане? НИНКА. А вон. Мы с тетей Галей гадали до утра. Вот поверишь, нет – гадали только? Даже гостя в тазике увидели: смутно так, но облик человечий был. А с утра баня топлена и в ней шевелится кто-то. Волосатый. ОКСАНА. Да вы что здесь коллективно умом поехали? НИНКА. Я сама видела. Там слева от занавесочки просвет. Пойди, глянь. ОКСАНА. Может Ирод? НИНКА. Нет! Не он. Я заглядывала. Волосатый, большой, фыркает. ОКСАНА /перепрыгнула через забор/. Да ну вас! Вы так и в самом деле свихнетесь. ЛУКЕРЬЯ. Оксана, погоди. Огурца ему отнеси. ОКСАНА. Зачем? ЛУКЕРЬЯ. Вдруг он нашу пищу потребляет. Прикормим. Приручим. На Ирода натравим. А мирно приживется, так и Гальке жених. ГАЛИНА. Кто? ЛУКЕРЬЯ. А хоть кто, лишь бы водку не пил. НИНКА. Она тебя, теть Галь, черту сватает. ГАЛИНА. Да уж лучше сразу собакам скормить. /Галина уходит в дом/. ЛУКЕРЬЯ /вслед Галине/. Я сама от тебя на мыло уйду.
Оксана тем временем приблизилась к двери бани.
Оксанка, постой! Огурца возьми, прикорми!
Оксана открывает дверь в баню. Пауза.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Ты кто? ОКСАНА. Здрасьте. А вы кто?
Пауза.
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Ну, заходи, коли пришла. ОКСАНА. А и зайду! /Заходит в предбанник, закрывает дверь/. НИНКА /бежит к окошку бани, заглянуть пытается, прислушивается/. Ой, ой, ой, ой… ЛУКЕРЬЯ. Ну, чего там, чего?.. НИНКА. Да тихо, ты бабка. Фыркает кто-то. Дай расслышать. Жует что –ли?.. Чавкает! ЛУКЕРЬЯ. Скажешь тоже: чавкает! Голос-то человеческий был. Знакомый голос-то… НИНКА. Знакомый? Так вспоминай. ЛУКЕРЬЯ. Да не сбивай ты… Голос больно знакомый.
Выходит Галина.
НИНКА /Галине/. Теть, Галь, только не шуми, к бабке память возвращается. ГАЛИНА. О чем память-то? НИНКА. Черт в бане голосом знакомым говорит. ГАЛИНА. /Лукерье/. Мам, ты на плечи свои посмотри. ЛУКЕРЬЯ. Чего мне на их глядеть? ГАЛИНА. Что у тебя на плечах? ЛУКЕРЬЯ. Вся твоя жизнь непутевая на моих плечах. /А сама все же глянула на плечи/. Ой, это чего же я старая, вовсе в тень уплыла? НИНКА. А ты выплывай, выплывай, ты греби, греби! ЛУКЕРЬЯ. Он же к нам в ночь пешком дошел. Только вас, окаянных с бани вынесло, с полчаса прошло и Василий стучит. Я сразу подумала, что от вас нечисть какая образовалась. Чуть со страху не померла. А он платок подарил. Верно. Вот он платок-то. НИНКА. Теть, Галь, а ты чего молчишь? Нет, в самом деле, к ней сын приехал, а она ходит тут, понимаешь, над нами подсмеивается. У меня сердце вниз екнуло, уж не знаю где искать его. А она ходит и молчит. ГАЛИНА. Посмотреть хотела докуда вас бабкина дурь доведет? ЛЕКЕРЬЯ. Не стыдно мать дурой обзывать?
Галина не успела ответить. Дверь бани распахнулась, и вышел Василий распаренный, счастливый. Вытирает плечи и торс большим махровым полотенцем.
ВАСИЛИЙ. Хорошо! ГАЛИНА. С легким паром, сынок! ЛУКЕРЬЯ. С легким паром, Василий. ВАСИЛИЙ. Спасибо. Ой, хорошо тут у вас! НИНКА. С приездом, Василий. /Подходит к нему протягивает руку/. ВАСИЛИЙ /руку пожимает/. Спасибо. НИНКА. Это ж сколько мы с тобой? Лет пять не виделись. ГАЛИНА /с укором/. Семь. Семь лет не заглядывал. ВАСИЛИЙ. Да ладно мам, жизнь сама видишь какая. Приехал ведь. /Нинке/. А ты что все здесь просиживаешь, дочь не зовет к себе? НИНКА. Учится она пока. Да и замуж выйдет куда звать? В чужой дом? Видно здесь мне судьба доживать. Ты к нам надолго? ВАСИЛИЙ. Как заладится. Нинка, вот честное слово удивляюсь, ты ведь нисколько не изменилась, ну ни капельки. Секретом поделись. НИНКА. Да какие секреты. Никаких секретов нет. Воздух свежий, труд крестьянский. ЛУКЕРЬЯ. Они, Василий, в бане колдовскими травами моются, а Нинка, по ночам еще и в кипятке сидит, и Галину свариться призывает. НИНКА. Не слушай ты ее, Василий, бабушке, уже средь бела дня черти мерещатся. ЛУКЕРЬЯ. А то я вас не видела? Щелочку-то меж занавесками я оставила, за вами окаянными наблюдала. ВАСИЛИЙ /Нинке/. Какие травы? Поделишься наукой с представителем традиционной медицины? НИНКА. Да не, лучше покажу. Сама попарю, сама пошепчу, для здоровой энергии поры откроем, хвори выгоним вон, тогда и понять легче будет: что к чему и по какому поводу. ГАЛИНА. Ты кого сама парить собралась? НИНКА. А хоть кого. С исключительно лечебной целью. ГАЛИНА. Иди, давай к себе. У тебя там в бане, поди, все дрова прогорели. Пора задвижку закрывать. У него против твоих лечебных целей жена в городе красавица и детей, между прочим, двое. /Для пущей убедительности/. Сын и дочь! ВАСИЛИЙ. Дочь и сын. Дочь старше. ГАЛИНА. Какая разница. Садись к столу, Василий. А ты, Нинка… Нечего тут мутить. Иди, давай. НИНКА. Да я иду. /А сама стоит Василием любуется. В таких случаях говорят: не надышится./ ГАЛИНА /Лукерье/. Мам, ну выходи уж завтракать, наконец. /Василию/. Присаживайся, присаживайся, давай. /Сама садится/. Я этой минуты, Вася семь лет ждала. Вот яблоньку вырастила, успела. ВАСИЛИЙ. Мама, а в бане кто? ГАЛИНА. Что? ВАСИЛИЙ /тихо/. В бане кто, спрашиваю. ГАЛИНА. Ты чего, Вася? У тебя тоже что ли, как у бабки голова в тень уходит? Кто там может быть, в бане-то? Если ты вот здесь сидишь? НИНКА. А это у нас, Василий, по бане в последнее время духи гуляют. Бабка, как их видит, крестится и все. Перекреститься надо было и никаких тебе видений. ВАСИЛИЙ. Какие духи? Да вы что? НИНКА. Перекрестись и все пройдет. Перекрестись. ВАСИЛИЙ /крестится на всякий случай, бормочет тихо/. Она вроде живая была. ГАЛИНА. Какие духи? Нинка, ты чего? ВАСИЛИЙ /крестится/. Да ладно. Ночь не спал. Ладно, все. Закрыли тему. НИНКА. Ну вот, и ладненько, вот и ладненько, а я пошла, я пошла…
Нинка собирается уйти, но выходит торжественная Лукерья, в руках бутылка водки.
ЛУКЕРЬЯ. Василий, вот прими от меня с приездом. ВАСИЛИЙ. Спасибо. ЛУКЕРЬЯ. У нас ить беда, Вася. ГАЛИНА /строго/. Какая у нас беда, мама?! ЛУКЕРЬЯ. У поросенка вон, опять пописка загнила. ГАЛИНА /с укором/. Мама! Завтракать сели. ЛУКЕРЬЯ. Чего мамкать-то? /Василию почти официально, с некоторой гордостью/. В эту осень решили двух поросенков взять. В райцентре Ксюха выбирала двухнедельных. Оба боровы оказались. Так-то ядреные, но у одного вот пописка загнила. ГАЛИНА. Мама, человек только приехал, а ты тут со своими пописьками. ЛУКЕРЬЯ. Так ведь доктор он. ГАЛИНА. Доктор человечий, а не скотский. ЛУКЕРЬЯ. Ежели человечий, так ему теперь на скотину и глядеть нельзя? ВАСИЛИЙ. Ну, хорошо, бабушка, пойдем, глянем твоих питомцев. ЛУКЕРЬЯ /Галине с гордостью/. Доктор он и есть доктор! ГАЛИНА /поднимается, идет вслед за ними, говорит с укором/. Вась, ну только завтракать сели. ВАСИЛИЙ /Лукерье/. Показывай, где они? ЛУКЕРЬЯ. Пока совсем малые были, мы приютили их в яшычке. Так вот один что, попроворней из яшычка-то сбегал. Однажды выбирался, об гвоздочек пописку и поранил, я ранку-то йодом обмыла, уже коростина стала нарастать, а тут эти две окаянные в ночь колдовство затеяли, я утром глянь: а коростины-то нет! Пописка снова загнила. К бане подхожу, а там плещется кто-то… ВАСИЛИЙ. Ну, веди, веди. Где яшычек-то? ГАЛИНА / уходя за ними, Нинке/. Нинка, ну что ты тут пристыла. Шла б домой, что ли? Ирода уведи подальше, да поскорей. Ну, сама же понимаешь, Нинка.
Галина уходит в сени вслед за Василием и Лукерьей. Собиралась восвояси и Нинка, но не успела, Оксана вышла из бани.
НИНКА. С легким паром! Ну ты даешь! ОКСАНА. Спасибо. Нинка, а это кто? НИНКА. Ну ты вообще! В баню заперлась, а знакомиться не стала? ОКСАНА. Мне что знакомиться? Сказал: входи, а я легко… Он уже в трусах был. Растерялся, когда я джинсы скинула, да в парилку сиганула. Что за мужик? НИНКА. А тебе чего? Мужик и мужик. Тебе-то на что? ОКСАНА. Я не о том. Не дай Бог, второго Ирода заведете. НИНКА. Нет, ты че? Василий это. Теть Галин сын. Мы с ним до пятого класса за одной партой сидели. ОКСАНА. Скажи еще: в одной постели лежали. НИНКА /смотрит на Оксану, говорит не сразу/. А тебе-то что? Тебе все равно не понять. ОКСАНА. Чертом его за что окрестили, огурцом прикормить посылали? Тоже что ли хмырь какой? НИНКА. Нет, ты что? Василий доктор знаменитый. О нем раньше в областных газетах писали. ОКСАНА. Теперь не пишут? НИНКА. Может и пишут. Только я теперь газет не читаю. Он к нам семь лет назад приезжал. Ты еще маленькая была, не запомнила, наверное. Или, может, вовсе не встречались. ОКСАНА. Если доктор знаменитый, с чего он, вдруг, чертом стал? НИНКА. Да у бабки опять крыша поехала. Забыла кто в бане моется. Убедила меня, старая, страхами своими, что это мы с теть Галей кого-то в ночь наколдовали… ОКСАНА. А вы доктора наколдовали? НИНКА. Мы не мы? Теперь какая разница кто наколдовали? У меня и вправду там дрова прогорели поди все уже, баня тоже топится. /Хватает огромную сумку/. Ксюх, а может ты от себя Ироду бутылочку добавишь? ОКСАНА. Догоню, тогда добавлю. НИНКА. Да ну тебя, охолонь! Гостя надо принять достойно. Чтобы все по-тихому было. Сиськи-то прикрой. Он тебя не знает, не так поймет.
Нинка уходит. Оксана, накинув на шею полотенце, прикрывает грудь.
ОКСАНА /задумчиво/. Доктор знаменитый. Ну, спасибо тебе Господи. Правду говорят, если пруха пошла, успевай загребать.
Выходит Василий, вытирает руки легким полотенцем, рядом гордая Лукерья и утомленная Галина.
ВАСИЛИЙ. Ну! Как говорится: будет жить! /Увидел Оксану. Пауза./. Мама, это кто? ГАЛИНА. Где? ВАСИЛИЙ. Скажи, ты видишь кого-нибудь еще или нет? ГАЛИНА. Я-то вижу. А ты? ВАСИЛИЙ. А говорили: привидение. ГАЛИНА. Вася, ты перегрелся что ли, или приболел? ВАСИЛИЙ. Было малость, перед поездкой малость. Вот я и думал что опять… Но ничего, ничего. Кто это? ГАЛИНА. Оксанка. /Жестом указывает на дом/. Николая покойного дочь. ВАСИЛИЙ. Так она же вот, вот такая /жестом показывает: какая была Оксана невысокая и тощая/ была. ГАЛИНА. Семь лет назад. ВАСИЛИЙ. Ой, елы-палы! Точно ведь! Семь лет прошло. А у меня в мозгах все тот же образ. Семь лет – это срок. /Подходит к Оксане/. Здравствуй, Оксана. ОКСАНА. Здравствуй, дядя Вася. ВАСИЛИЙ. Не помнишь меня? ОКСАНА. Честно. Не помню. ВАСИЛИЙ. А я помню. Ну, ты молодец! Да как же ты так? ОКСАНА. Чего? ВАСИЛИЙ. Красавица выросла. ОКСАНА /язвительно/. Спасибо. ВАСИЛИЙ. Ну, удалась, удалась. Щедра к тебе природа. ГАЛИНА. Василий! ВАСИЛИЙ. Что, мама? ГАЛИНА. Споткнешься. /Пауза. До Василия не дошло/. Споткнешься, ушибешься, больно будет. Иди к столу завтракать пора. /Увидела на столе продукты/. А это что такое? ОКСАНА. Это вам от меня. ВАСИЛИЙ. Мам, я же там тоже в холодильник выложил… ЛУКЕРЬЯ. Вот пускай и лежит. Не испортится. Пока всего вдоволь. ГАЛИНА. Иди Оксана, позавтракай с нами. ОКСАНА. Спасибо. Я еще к себе не заходила. /Оксана уходит в свой дом/. ГАЛИНА /вздыхает/. Ну, наконец-то, дождалась. Наливай, Василий.
Василий разливает водку в стопки.
Вась, ты за стопками смотри! Куда сам пялишься? ВАСИЛИЙ. Да смотрю, смотрю, мам. ГАЛИНА. Вон уже сколько пролил. Ну, давай за встречу. ВАСИЛИЙ. Я не буду, мам, ты пей. ГАЛИНА. Так после баньки стопочку не вредно. ЛУКЕРЬЯ /поднимая свою стопку/. Выпей чуток, Василий, я тебе за поросей потом еще бутылочку поднесу.
Василий поднимает стопку, женщины выпивают, он незаметно ставит свою на стол.
ГАЛИНА. Что с тобой, Вася? ВАСИЛИЙ. Ничего. ГАЛИНА. Нет. Ты скажи. ВАСИЛИЙ. Просто не хочу и все, что говорить-то? ГАЛИНА /на глаза ее наворачиваются слезы/. Просто не бывает, Вася. ВАСИЛИЙ. Ты чего, мам? ГАЛИНА. Да ничего. Болеешь, значит. ВАСИЛИЙ. Не так, чтобы очень, но лучше воздержаться. ГАЛИНА. Яблоня тебе наша нравится? ВАСИЛИЙ. Хорошая. Сколько ей? ГАЛИНА. Восьмой год пошел. С твоего последнеднего приезда посадила. Мечтала, чтобы все под ней: Ты, Светлана, внуки. Вот за этим бы столом и все. А? Вася? ВАСИЛИЙ. Жизнь сейчас такая, мама. Всем разом трудно выехать. Настя экзамены в институт сдает, Серега в футбольной команде, все лето на соревнованиях. ГАЛИНА. Какие они, теперь? Хоть, одним бы глазком посмотреть. ВАСИЛИЙ. Большие, хорошие, умные. Я фотографии привез, там они в доме. ГАЛИНА. Ты хоть бы сказал: приезжай, мама, погости. ВАСИЛИЙ. Так скажу еще. ГАЛИНА. Так налей еще.
Василий наливает.
ЛУКЕРЬЯ. Мне, Василий, совсем чуток. ВАСИЛИЙ. Ну, давайте за встречу.
Женщины выпивают, все закусывают. В соседнем дворе Оксана заводит мотоцикл.
Куда она? ГАЛИНА. Ты у нее спроси.
Спросить Василий не успевает. Мотоцикл с ревом, на заднем колесе вырывается со двора и уносится вдаль. Дальнейший разговор идет на фоне то приближающегося, то удаляющегося звука мотоциклетного двигателя.
ВАСИЛИЙ. Ничего себе! ГАЛИНА. Вот тебе и ничего себе! ВАСИЛИЙ. Мам, смотри, возвращается. Да что же она делает?! Бог ты мой, как с трамплина летит! Да что же она делает! Сумасшедшая! ЛУКЕРЬЯ. Это ты верно, Василий, заметил. Человек в разуме так выкобениваться не станет. ВАСИЛИЙ. Тихо! Едет. Опять на разгон пошла. Тихо! /Вслушивается в нарастающий шум двигателя. Потом резко наступает тишина и снова рев/. Мама, она сальто сделала! Тихо! Двигается, двигается, двигается. /Шум двигателя удаляется./ Четко приземлилась. Едет, ну, слава Богу едет. Это же цирк! ГАЛИНА. Мы этого цирка насмотрелись, Василий. Только двигает всем этим большая беда, которой сторониться хочется. Ты мать ее помнишь? ВАСИЛИЙ. Нет. Даже смутно никакого образа. Может, не видел, а может, не запомнилась. ГАЛИНА. С проезжим шофером сбежала. Оксанке тогда годика четыре или пять было, вместе они по ягоды ходили. Из лесу на тракт вышли, там какой-то грузовик тормознул. Она в кабину влезла, и ягоды с собой забрала. Укатила. Девчонка ее до темноты ждала, пришла вся в пыли, как в муке ржаной, только на щеках от слез потеки и бидончик свой детский держит, там земляники на донышке. ВАСИЛИЙ. Почему решили, что сбежала? Вдруг, случилось что? ГАЛИНА. Николай-то, царствие ему небесное, отыскал ее потом. Возвращаться она отказалась. Сам Николай запил. Тихо пил, но постоянно. Годы пил, а потом по весне на мотоцикле с моста кувыркнулся. Оксанке тогда уже лет двенадцать было. Три дня его по реке искали. А Оксанка сама мотоцикл из воды вытащила и домой утолкала. Над мотоциклом все эти три дня плакала, а хоронили отца, ни слезинки не проронила. Уже на следующий день оседлала мотоцикл и вот с тех пор на нем. Я первое время смотрела на нее и сердцем вздрагивала. Казалось, будто взамен отца к машине прикипела, то на винтики разберет, то опять соберет. Мы ее до 15 лет в интернат не отдавали. Сами растили. Пока школу нашу не ликвидировали. Но душа девчонки вся в этой машине была. Роднее мотоцикла никого. ВАСИЛИЙ. Тихо! /Звук двигателя усиливается/. Вон она, смотри: на взгорке! Какой прыжок! Мама, я такое только по телевизору видел! ГАЛИНА. Налей еще, Василий. А чего так руки-то дрожат? ВАСИЛИЙ. Так, страшно, мама. За человека страшно. ЛУКЕРЬЯ. Ты сердце не напрягай. Это в ней бес играет. И беды их дома все от него. Кто-то большую порчу навел. Мы теперь боимся даже и на тот двор ступать. ГАЛИНА. Ты не улыбайся, уж казалось бы еще чего больше? А, оказалось, есть чего. /Поднимает стопку/. Ну, давай, чтобы нас миновало. /Выпивает/ ВАСИЛИЙ. А что миновало-то? ЛУКЕРЬЯ. Нонче Оксанка у нас облизьяной стала. ВАСИЛИЙ. Кем, кем?! ЛУКЕРЬЯ. Облизьяной. ВАСИЛИЙ. Какой обезьяной? ЛУКЕРЬЯ. К нам весной, Василий, пионеры приезжали. ГАЛИНА. Какие еще пионеры? ЛУКЕРЬЯ. Бывшее правление на кирпичи разбирать, кто приезжал? Я сама сходила, глянула, кирпич-то еще добрый был. ГАЛИНА. Так то студенты приезжали! ЛУКЕРЬЯ. А я что говорю? Так все правление на кирпичи свезли. А Оксанка, Василий, одну из энтих пионерок на своей моциклетке днем и ночью катала. Докаталась. Та ее заразила. Оксанка от этой заразы обратилась в мужика. ВАСИЛИЙ. Чего?! ГАЛИНА. Правду бабка говорит. Вась, наливай еще. ЛУКЕРЬЯ. Гальке, а тебе хватит «еще», «наищекаешься» с утра. А нам день жить «Ище»! ГАЛИНА. Половинку в самый раз. ВАСИЛИЙ /наливает/. Так, в самом деле, что ли лезбиянка? ГАЛИНА. Да ладно, не погань язык! ЛУКЕРЬЯ. Куда ж теперь деваться. Облизьянка и есть. ГАЛИНА. Выпей, Василий. ВАСИЛИЙ /поднимает стопку, борется с желанием выпить/. Да не похожа она. ГАЛИНА. А ты у нее спроси. Не все вам городским отличаться. Мы здесь тоже теперь модные! С приездом! /выпивает/. ВАСИЛИЙ /с усилием поставил стопку на стол/. Спасибо. ЛУКЕРЬЯ /тихо Галине/. Гальке, пить-то охолонь. Ты уже на китайца похожая стала. ГАЛИНА. А это у меня печень. Печень надо лечить. ВАСИЛИЙ. Разберемся. А пока тебе лучше прилечь отдохнуть. С рассвета на ногах. Поспи часок. ГАЛИНА /Лукерье/. Учись, как с людьми разговаривать надо. А-то китайца, японца. Вася ты ведь еще мой пальмовый сад не видел. ВАСИЛИЙ. Где? ЛУКЕРЬЯ. Вся спальня у нас теперь в деревах, как в африке живем. Скоро тоже облизьянами станем. ГАЛИНА. Да при чем тут спальня, мам? С весны до осени я их в сени выставляю, в летнюю комнату, там и солнца больше, и тепло накапливается. ВАСИЛИЙ. Пальмы откуда? ГАЛИНА. Забыл? Ты же мне из Ялты пальмовых семян привез. Десять лет тому назад. ВАСИЛИЙ. Забыл. ГАЛИНА. А они взошли, все взошли и выросли. Пойдем, поглядим. ВАСИЛИЙ. Пойдем. ГАЛИНА. Ты чего к лобию-то даже не притронулся? ВАСИЛИЙ. Да я, как-то равнодушен к нему. ГАЛИНА. А в детстве как ел! Все просил: мама, лобы, лобы… Я тоже к южной пище пристрастилась, страсть, как люблю, вон вдоль забора кирсалат пыталась вырастить, но горький он у меня получается. Пальмы южные помнишь? ВАСИЛИЙ. Так вроде помню, вроде – нет. ГАЛИНА. Я их для тебя растила, что бы приехал и все, как в детстве, как там у моря у нас было. Пойдем, покажу. /Лукерье/. Мама, не убирай! Пусть все стоит, как есть. ЛУКЕРЬЯ. Надо, хоть полотенцами, да крышками прикрыть. Мухи засидят.
Лукерья прикрывает еду на столе и уходит в дом вслед за Василием и Галиной. Удаляется и затихает звук мотоциклетного двигателя и, в этой, вдруг нависшей тишине во дворе, как ниоткуда появляется Ирод. Он со звериной осторожностью оглядывает двор, прослушивает пространство, только после этого приближается к столу, оценивает его содержимое, наливает себе водку в чайную чашку, выпивает и начинает жадно есть. За этим занятием застает его, вышедший из дома Василий.
ВАСИЛИЙ. Приятного аппетита. ИРОД /поперхнувшись/. Чего? ВАСИЛИЙ. Приятной трапезы, говорю. ИРОД. Ты кто? ВАСИЛИЙ. А ты кто? ИРОД. Ты не дуркуй, когда спрашивают. ЛУКЕРЬЯ /подойдя к окну/. Ирод, ты пошто со стола ешь? Для людей накрыто. Все твое у Нинки давно. ИРОД. Слыхал? Здесь меня Иродом кличют. А ты человек, значит, тебе хавло подано? Садись, побазарим.
Ирод разливает водку по чайным чашкам
Откуда занесло? ВАСИЛИЙ. Да вот домой приехал. ИРОД /указывает пальцем на дом Галины/. Сюда? ВАСИЛИЙ. Сюда. ИРОД. Сын? ВАСИЛИЙ. Сын. ИРОД. Тот, который врач? ВАСИЛИЙ. А другого не было. ИРОД. Чего другого? ВАСИЛИЙ. Сына другого не было. Значит тот, который врач. ИРОД. На отдых, значит? ВАСИЛИЙ. А это как заладится. ИРОД. А не на отдых, так зачем? ВАСИЛИЙ. Сказал же, как заладится. ИРОД. Не дуркуй. От какой работы ты здесь кормиться станешь? ВАСИЛИЙ. Ты же кормишься. ИРОД. Я здесь крышую. ВАСИЛИЙ. Кого? ИРОД. Пять деревень в округе и в каждой вот такие же бабки остались. Ну, давай за встречу. ВАСИЛИЙ. Ты пей, я воздержусь. ИРОД. А вот быковать со мной не надо.
У стола появляется Лукерья, хватает бутылку.
ЛУКЕРЬЯ. Ты чего ж это всю чужую водку вылакал, ирод рода человеческого?! ИРОД /весело/. За встречу, бабушка. Гость у вас. Все по-человечески. ЛУКЕРЬЯ. Твою долю Нинка унесла. По три бутылки в месяц выставляем, он еще и не свою решил слокать. ВАСИЛИЙ. Да, ладно бабушка, я же не пью, пусть за меня. ЛУКЕРЬЯ. А не пьешь, Василий, все ж сохраннее будет. ВАСИЛИЙ. Оставь, бабушка. Мне оставь. ЛУКЕРЬЯ. Сам пей, Василий, ему все не спаивай. /Уходя в дом, Ироду./ А ты, Витька, смотри тут у меня! ИРОД. /Лукерье/. Все путем, матушка, все путем. /Василию/. Так что же ты не пьешь, Василий? В завязке? ВАСИЛИЙ. В завязке. Так от кого ты бабушек крышуешь ? ИРОД /выпивает, закусывает/. Здешние леса много разных лешаков таят? Дури много обитает. И бомжи, и навроде меня. ВАСИЛИЙ. А навроде тебя это кто? ИРОД. Накат на дознанку пошел? ВАСИЛИЙ. Любопытствую. ИРОД. А, навроде меня, лучше не знать: кто и откуда? Меньше знаешь, легче спишь. Согласен, милый человек, Василий? ВАСИЛИЙ. По всему выходит, что индивидуум ты для бабушек полезный и кормить им тебя не накладно. ИРОД. Все по понятиям, братан. Ежели я их сожру, то и сам вымру. Баланс святое дело. Нинку знаешь? ВАСИЛИЙ. Знаю. ИРОД. Она моя. Вот и весь расклад. /Наставительно/. Не нарушай баланс. Живи мирно, значит, жив будешь и других сохранишь. С приездом. /Выпивает/. Спасибо за хлеб соль. Я загляну еще. ВАСИЛИЙ. Ну, уж сделайте милость, осчастливьте. ИРОД. Да ладно, не быкуй, обмозгуй ситуацию, поймешь, что все здесь ладом. /Уходя/. А то пойдем вместе в баньке попаримся. ВАСИЛИЙ. Спасибо, я только что… Попарился. ИРОД. Ну, с легким паром.
Ирод уходит. Василий берет со стола стопку с водкой, смотрит на нее. Усиливается звук двигателя мотоцикла. Василий ставит стопку на стол. Оксана въезжает к себе во двор. Подходит к забору, видит, что Василий не сводит с нее глаз.
ОКСАНА. Ну, что дядь Вась, видел? ВАСИЛИЙ. Видел. ОКСАНА. Я для тебя каталась. ВАСИЛИЙ. За что такая честь? ОКСАНА /перепрыгнула через забор/. А это чтобы легче было с главной просьбой подкатить. /Замечает беспорядок на столе/. Это кто же так насвинничал? /Наводит порядок/. С чего такой грустный, дядя Вася? ВАСИЛИЙ. Да вот выяснилось, что вы здесь все цивилизацией тронутые. ОКСАНА. А чего нас обделять, мы тоже люди. Ирод что ли пожрать успел? ВАСИЛИЙ. Он самый. ОКСАНА. Ну и как он вам? ВАСИЛИЙ. Да никак. А что с тобой случилось, девочка? ОКСАНА. А что со мной случилось, дядя Вася? Бабушки-то, наверно, рассказали? Мама, спьяну, с проезжим шофером сбежала, отец по весне на мотоцикле с моста нырнул. И любила я всю свою маленькую жизнь вместо отца мотоцикл, как человека любила и люблю. И это правда! А больше ничего страшного со мной не случалось. ВАСИЛИЙ. Мать-то жива? ОКСАНА. Жива. Я теперь ее в райцентре вижу иногда. Не подхожу даже, а она меня не узнает. Спилась напрочь, и шоферюга ее большегрузный тоже спился. Считай: до смерти померли оба. Но братишку они мне сделать успели. Девять лет пацану, в интернате для слабоумных содержится… Представляешь, дядя Вася, пацан!.. ВАСИЛИЙ. Если ты по этому поводу ко мне, Оксана, то сразу скажу – хирургия здесь бессильна. ОКСАНА. А ты хороший хирург, дядя Вася? ВАСИЛИЙ. Был хороший. ОКСАНА. Почему был? ВАСИЛИЙ. Есть проблемы, но они поправимы, надеюсь. ОКСАНА. Какие органы оперируешь? ВАСИЛИЙ. Какие придется. ОКСАНА. А половые? ВАСИЛИЙ. Извини, Оксана, тебе психолог нужен, срочно, а не хирург. ОКСАНА. С психологом я уже работаю. Походка, манеры, голос… Неужели незаметно, что по психологии мне пятерку ставить можно? ВАСИЛИЙ. Да какой же козел за это взялся? ОКСАНА. Я хорошо плачу. ВАСИЛИЙ. Откуда? ОКСАНА. Чего: откуда? ВАСИЛИЙ. Деньги откуда? ОКСАНА. Я в автосервисе работаю. ВАСИЛИЙ. В бухгалтерии? ОКСАНА. Авто слесарь я – сама себе бухгалтерия. И в проводке разбираюсь лучше всех. Ко мне иномарки в очередь стоят! ВАСИЛИЙ. А парень у тебя был когда-нибудь? ОКСАНА. Парень? В интернате пареная репа был, да все мужики сейчас пареные репы. Я сама себе парень. ВАСИЛИЙ. Да, нету в тебе этого, нету! Вон, как к столу подошла, красиво, как прибрала все, и руки у тебя какие глянь – женские! ОКСАНА. Дядя Вася, давай так договоримся: ты меня всем этим не грузи. Я в Москве была, тесты проходила. Отказались меня оперировать: /передразнивает Василия/ ну, нету во мне этого, нету! ВАСИЛИЙ. Так зачем? ОКСАНА. Надо! И сказали умные люди, что все можно сделать нелегально. Сам не можешь помочь, может знакомые есть, которые возьмутся. Я хорошо заплачу. ВАСИЛИЙ. Документы переделывать тоже нелегально? ОКСАНА. Нашел проблему! Документы переделать? Дядя Вася, от такой наивности в детском саду лечат. ВАСИЛИЙ. Тебе не психолог. Тебе психиатр нужен. У меня есть. Очень хороший психиатр. Я серьезно. К нему тоже очереди на иномарках стоят. А денег он с тебя не возьмет, потому что я тебя привезу. ОКСАНА. Ты меня? ВАСИЛИЙ. Ну!.. ОКСАНА. В психушку? ВАСИЛИЙ. В больницу, к хорошему специалисту. ОКСАНА. Ты себя туда отвези, дядя Вася, по блату. Подлечись, потом поговорим. Ты знаешь, какие я тебе деньги могу предложить? ВАСИЛИЙ. Нет. ОКСАНА. Хочешь, скажу? ВАСИЛИЙ. Нет! Пошла ты!.. Со своими деньгами. Тебя же изуродуют! И легально, и нелегально изуродуют.
Пауза
ОКСАНА. Ну что же? Ну и пошла я. Прощай, дядя Вася. /Пауза/. Между прочим, отец мой хотел, чтобы я пацаном родилась, все детство со мной, как с пацаном водился. /Пауза/. Ладно, забудь. Не вспоминай. Весь мир к таким вещам спокойно относится. Но вам, совкам, туда не допрыгнуть. А нам, на вас, ископаемых, время терять, извини, некогда.
Оксана перемахнула через забор, завела мотоцикл.
ВАСИЛИЙ. Ты куда? ОКСАНА. Да некогда мне с тобой, дядя Вася. Услышишь ты еще обо мне. Живи и плесневей. Пока.
Оксана выехала со двора. Василий проводил ее взглядом, и снова обращает свой взор к стопке с водкой, а пока в нем борется желание, Оксане преграждает путь Ирод.
Уйди с дороги! ИРОД. Давай так: давай по мирному. Доктора в гости зову и тебя тоже. Пойдем по мирному. ОКСАНА. Куда в гости? Где твой дом? ИРОД. К Петровне зову. ОКСАНА. Водку пить и шпроты жрать? В городе, такие как ты на «мерсах» ездят, а ты здесь старух обираешь. ИРОД. Не такие, как я. Поверь, не такие, как я. Пойдем, заберем доктора, посидим, потолкуем о жизни. Я тебе сказку расскажу, ты таких сказок еще не слышала. ОКСАНА. Ты этому придурку доктору сказки свои рассказывай. Уйди с дороги. ИРОД /крепко вцепляется в руль мотоцикла/. Нужна ты мне, в глаза посмотри, ну посмотри в глаза, нужна, как воздух. Поверь. ОКСАНА. Охренел что ли, пусти, урод! ИРОД. А, если не урод, если ошибаешься ты? ОКСАНА. Отпустишь, нет? Я сейчас газану. ИРОД. Девочка, силу мою не серди. В гости зову… ОКСАНА /кричит/. Пусти, козел!
Оксана выжимает газ, но у Ирода хватает сил дернуть за руль так, что мотоцикл опрокидывается и придавливает собой Оксану.
ВАСИЛИЙ /кричит/. Ты что делаешь, сволочь!
Василий бежит помогать Оксане. Он успевает с разбега сильно толкнуть Ирода и замахнуться для удара, но тут же отскакивает на безопасное расстояние. В руках у Ирода финка. Василий передвигается, сохраняя расстояние безопасным для себя, он ищет глазами какой-нибудь тяжелый предмет, который можно будет успеть поднять и использовать для обороны. В определенный момент их диалога Оксана, доберется до своего двора. Там она нальет из канистры в жестяную банку бензин.
ИРОД. Ты чего, браток, а? Ты чего, пальцем деланный? Я ж к тебе шел. От Нинки шел, звать в гости шел, к своему столу звать, на свое угощение. ВАСИЛИЙ. Ну, спасибо, браток, за угощение у матери моей конфискованное. ИРОД. Я ж тебе объяснил – это плата за труд. Не я, так другой придет. Ты уверен, что лучше будет другой, чем я? Бабки сыты. Поросей откармливают, набегов не знают, пожаров не знают. Это работа браток, большая работа. Вы же не знаете на кого здесь свою родню пооставляли. Ты не прав, браток! ВАСИЛИЙ. Ну, так режь меня! /Имитируя падение на колени, Василий приседает и успевает схватить с земли палку/. Ну, режь! За то, что не прав! ИРОД. Что же вы все здесь глухие, а? Я же с чисто человеческим намерением, а ты не понял, браток. Зря не понял, браток.
В этот момент Оксана плеснула Ироду в лицо бензином начала бросать в его сторону горящие спички. Василий размахивает палкой отгоняет его подальше от Оксаны.
ИРОД /он по-настоящему испуган/. Ты чего делаешь, сука! Это же бензин, Вася! В лицо бензин! Мочи ее, сучку! Это же бензин, Вася!
Оксана порывается приблизиться к Ироду с огнем, но ей заметно мешает боль от полученных ушибов.
ВАСИЛИЙ /Ироду/. Уходи, дурак, быстрее уходи! ИРОД. /Отступая, стирает с себя бензин и отплевывается/. Я вернусь, браток! Вернусь! /Оксане/. Ты ответишь! Тебе ответ держать! Сука! Чуть живьем не сожгла. Я вернусь! Я скоро вернусь…
Василий и Оксана провожают взглядами убегающего Ирода, когда напряжение спадает, Оксана опускается на колени.
ВАСИЛИЙ /Оксане/. Что? ОКСАНА. Больно. ВАСИЛИЙ. Где? ОКСАНА /указывает в область живота/. Здесь. /Движение правой руки обнаружило другую боль/. Ой! ВАСИЛИЙ. Что? ОКСАНА. И здесь. /Левой рукой она указывает, в область шеи и плеча/. ВАСИЛИЙ. Сама встать можешь? ОКСАНА. Я сейчас. Я поеду. Сама. Сейчас, подожди. /Оксана пытается встать, но ей это не удается/. ВАСИЛИЙ. Нет, погоди, миленькая. Давай лучше так. /Он аккуратно поднимает ее на руки/. Вот так. Не больно так? Ну, вот и хорошо. Ты руками-то меня за шею обхвати, легче будет. Потерпи немножко. ОКСАНА. Ты куда меня несешь, дядя Вася? ВАСИЛИЙ. В светлое будущее. Держись крепче.
Он несет ее в свой дом.
Конец первого действия.
Действие второе.
Василий укладывает Оксану на тахту в летней комнате. Входит Лукерья.
ЛУКЕРЬЯ. С моциклетки, что ли пала? ВАСИЛИЙ. С моциклетки, да еще как! Подушку, бабушка, где взять? ЛУКЕРЬЯ. Там у Гальки в спальне. /Оксане/. Шея-то цела? /Василию/. Не ходи, я сама принесу. Галькю разбудишь, без ума проснется. Пущай доспит до бодрости, да вон, поросям воду отнесет. Пора им корм заводить.
Лукерья уходит в дом. Василий прикасается тыльной стороной ладони к щеке Оксаны.
ОКСАНА. Ты чего, дядя Вася? ВАСИЛИЙ. Медицинский осмотр. /Заводит ладонь под затылок, приподнимает голову/. Больно? ОКСАНА. Нет. ВАСИЛИЙ /легонько постукивает пальцами по челюсти/. А так? Где-нибудь боль отдает? ОКСАНА. Нет. Лицо горит, и если резко дергаться, где-то боль отдается, как будто везде. ВАСИЛИЙ. А теперь, миленькая, давай животик оголим. Не стесняйся. ОКСАНА. А кого мне стесняться здесь?
Входит Лукерья с подушкой.
ВАСИЛИЙ. Спасибо, бабушка. /Василий подкладывает подушку под голову Оксаны/. Вот так нормально будет. /Ощупывает живот/. Не больно? А так? ОКСАНА. Тише, тише, дядя Вася. /Оксана напряглась/. ВАСИЛИЙ. Что? Больно? ОКСАНА. Старые раны. Думала, залечила. ВАСИЛИЙ. Какие раны? Откуда? ОКСАНА. Это я образно. Застудилась. Зверь меня по снегу тут погонял зимой разок. В вашем погребе пряталась. ЛУКЕРЬЯ. Ой, Василий! Он, аспид, в кухне нашей водку хлещет сидит, а девчонка в погреб успела спрятаться, не заметил зверь, а крышка-то в самый раз под ножкой его табурета. Часа четыре просидел, все в окошко поглядывал, ждал, что она домой вернется, или к нам войдет. А мороз тогда дюжий был. ВАСИЛИЙ. Так спокойно и ждал. А уходил как? ЛУКЕРЬЯ. Нинка забрала, с тех пор к себе приколдовала. ВАСИЛИЙ. Бабушка, у вас лекарства какие-нибудь есть? ЛУКЕРЬЯ. Я их отроду не пила. Гальке у нас химию кушает. Но воздержись ее будить пока, Василий. ОКСАНА. У меня в бардачке аптечка. Только ты, дядя Вася, заведи мотоцикл сюда, там внизу, в хлеву поставь? ВАСИЛИЙ. Хорошо, я сейчас. /Уходит за мотоциклом/. ЛУКЕРЬЯ. Сильно ушиблась-то? Чего, Василий говорит? ОКСАНА. А чего врачи говорят? Будет жить! ЛУКЕРЬЯ. И чего тебе не жить? Ты же у нас всем хороша, а душой блуждаешь. То, к моциклетке прикипела, то к пионерке… Глянь в окошко: мир светом полнится, а все не про тебя. Душа света не зачерпнет, погибнет.
В сени выходит Галина.
ГАЛИНА. Мама! Ма-а-ам! /Спускается в хлев, затем поднимается в сени, заглядывает в летнюю комнату. Оксану за пальмами она не видит./ Мам! ЛУКЕРЬЯ. С добрым тебя полуднем! ГАЛИНА. Ты что, подушку пуховую поросям унесла? /Заметила Оксану/. Ой, вот она. А ты чего здесь? ЛУКЕРЬЯ. Ушиблась она, с моциклетки пала. ГАЛИНА /подходит к Оксане/. Кости целые? ОКСАНА. Да вроде целые. ГАЛИНА. /внимательно смотрит на Оксану/. Вот тут синяк будет большой. Головой стукнулась? ОКСАНА. Не совсем, больше плечом. ГАЛИНА. Ссадин нет. Хорошо это или плохо? Что Василий говорит? ВАСИЛИЙ /входя/. А Василий говорит, что больной нужен покой и лекарства. ГАЛИНА. Я принесу. У меня анальгин. ВАСИЛИЙ. А я уже принес. ОКСАНА. Дядя Вася, мотоцикл? ВАСИЛИЙ. В хлев поставил, дверь изнутри закрыл. ЛУКЕРЬЯ. Зря закрыл, Гальке воду поросям носить будет. ВАСИЛИЙ. Подождите немного, я наношу. ГАЛИНА. Ты лечи, Вася, а вода для нас дело привычное. Мам, пошли. ЛУКЕРЬЯ /Оксане/. Не закисай, все живее заживет.
Они выходят из летней комнаты в сени. Василий тем временем разбирает аптечку.
ОКСАНА. Пальмы. Такие, наверное, в Америке растут? ВАСИЛИЙ. И в Африке, и в Австралии… ОКСАНА. Ты мне, дядя Вася, адрес свой оставь потом. Я тебе из этих стран открытки присылать буду. ВАСИЛИЙ /трогает ладонью лоб Оксаны/. Голову не ушибла? ОКСАНА. Все ушибла. Лечи теперь.
Галина с Лукерьей в сенях.
ГАЛИНА. Мам, я в холодильник заглянула. ЛУКЕРЬЯ. Ты в колодец загляни вначале, чем по холодильникам шарить. ГАЛИНА. Да иду я, иду, только ты мне скажи: где? ЛУКЕРЬЯ. Что где? ГАЛИНА. Ну, что Василий привез. ЛУКЕРЬЯ. Все там, что привез. ГАЛИНА. Как же все? А это? /Жестом показывает, что должно было быть спиртное/. ЛУКЕРЬЯ. А этого он не привез. ГАЛИНА. В гости приехал и не привез, что ли? Ты что? Совсем?.. ЛУКЕРЬЯ. А я-то в чем виновата? ГАЛИНА. Спрятала? Молодец!
Галина идет за ведрами, но ее догоняет Василий.
ВАСИЛИЙ. Мама, я принесу. ГАЛИНА. Ну, давай ты. /Отдает ему ведра, смотрит на стол под яблонькой/. Вася, а что, не осталось у нас? ВАСИЛИЙ. Да приходил тут гость один, я ему все споил. ГАЛИНА. Ирод что ли? Это ты зря. Вася. Проводил?. Где он теперь? ВАСИЛИЙ. В бегах. ГАЛИНА /идет вслед за Василием к колодцу/. Чего?! А что случилось, Вась? ВАСИЛИЙ. Вон, Оксанка лежит. ГАЛИНА. А ты ему чего? Ты ему чего сделал-то? ВАСИЛИЙ. Я ничего. Не успел. Он от Оксанки сиганул. ГАЛИНА. А она чего? ВАСИЛИЙ. А она его серьезно подзадорила. ГАЛИНА. Ты говори, Вася, говори. Нам-то Оксана – отрезанный ломоть. Подзадорила и укатила, а жить здесь нам. ВАСИЛИЙ. Откуда он взялся? Местный? ГАЛИНА. Да нет, пришлый. ВАСИЛИЙ. Лицо его знакомым показалось. Видел я его где-то, уверен – видел, а вот: где вспомнить не могу. ГАЛИНА. Может на артиста какого похож? ВАСИЛИЙ. Ага, на Боярского! Мам, ты иди домой, вы там с бабушкой все двери понадежней закрепите. ГАЛИНА. А чего? ВАСИЛИЙ. Да ничего. Оксанка его серьезно шуганула. Вернуться обещал. ГАЛИНА. Это что же, я все на свете проспала? /Возвращается в дом/. Мама, мам!… Вот тебе и с моциклетки упала. Мама! ЛУКЕРЬЯ. Здесь я.
Убедившись, что Лукерья на безопасном от нее расстоянии, Галина извлекает из тайника водку, идет в летнюю комнату. Там и стаканчики есть и корзины с огурцами, помидорами. Василий с ведрами заходит в хлев.
ГАЛИНА. Ма-ам, ты где? ЛУКЕРЬЯ. Да тута я, /подозрительно/ чего опять размамкалась? ВАСИЛИЙ. Мам! Чего тут и где разводить-то? ГАЛИНА. У бабки спрашивай, она своих поросей мне не доверяет кормить. ЛУКЕРЬЯ. Иду, Василий, иду! ГАЛИНА /Оксане/. Как ты здесь? Под пальмами хорошо? ОКСАНА. Я под ними, под настоящими еще погуляю, вот увидите. ГАЛИНА. Эти тебе не настоящие что ли? ОКСАНА. Я под теми, что из земли растут. ГАЛИНА. Дай тебе Бог. Я тоже у моря успела пожить. И Василий у меня на юге родился. ОКСАНА. Тетя Галя, вот поверишь, нет? Мне с детства сны снятся, где я под пальмами у моря гуляю, и не то чтобы гуляю, а живу я там, уверенно живу, как здесь. Сны такие плотские, все есть и цвет и запах и, просыпаюсь когда, кажется будто ступни только что в песке утопали. В памяти все не так прозрачно, как обычный сон отзывается, а конкретно плотно так, будто действительность вспоминаю. И уверенность приходит, что я там буду. А я там обязательно побываю, тетя Галя. ГАЛИНА. Ты для того что ли модное отклонение себе сочинила? Там говорят такие в цене. ОКСАНА. Я не буду ничего объяснять. Вы потом все поймете. Я же вас не оставлю, навещать стану. ГАЛИНА. Спасибо. Ну, для поправки здоровья, будешь чуточку. ОКСАНА. Поправляйся, тетя Галя. ГАЛИНА. Навещай нас почаще, чем раз в семилетку. /Выпивает стопочку, прячет бутылку под кровать/. Ты чего с Иродом вытворила? ОКСАНА. Бензином в морду плеснула, поджечь не успела. ГАЛИНА. Да ты чего такое, Ксюха?! Ну ладно, он зверь, а ты-то у нас человек. В тебе такое откуда взялось? Уедешь ты под свои пальмы, а нам как жить? ОКСАНА. Теперь не уеду пока дело не завершу. ГАЛИНА. Что значит: завершу? Прогнать его невозможно. Хоронить, что ли собралась?
Входит Василий с тазиком.
ВАСИЛИЙ. Мам, пусти-ка меня к больной, мы ей холодные компрессы из колодезной водички наложим. /Прикасается тыльной стороной ладони к лицу Оксаны/. ОКСАНА. Дядя Вася, а почему ты меня все время ладонью по щеке гладишь? ВАСИЛИЙ. Температуру смотрю. ОКСАНА. И как? ВАСИЛИЙ. В допустимых пределах. /Отжимает тампоны и накладывает Оксане на ушибленные места/. ОКСАНА. Холодно! ГАЛИНА. Она, знаешь чего, Василий, задумала? Пока, говорит: не убью Ирода, не уеду. ВАСИЛИЙ. Сильное заявление, но не осмысленное. ОКСАНА. Есть другие варианты? ВАСИЛИЙ. Вариантов пока нет, жизнь подскажет. Но, если хочешь продуктивного результата, девочка, головой работать надо, а не руками махать. ОКСАНА. Ну, ну, ударим интеллектом по зверю. ГАЛИНА. Ой, чего это Нинка несется, как угорелая? Что там у них стряслось? НИНКА. Тетя Галя! Бабушка! /Вбегая в дом/. Да где же вы все!? ВАСИЛИЙ. Да здесь мы все, здесь! НИНКА /вбегает в летнюю комнату, запыхавшись/. Ой, че, ой, че, ой че! ГАЛИНА. Что стряслось-то? НИНКА. Счас, погоди! ЛУКЕРЬЯ /встает в дверях летней комнаты/. Принесло окаянную. ГАЛИНА. Ну, говори уже. НИНКА. Витька! Витька-Ирод мне сегодня отвертку принес. Обещал – принес. Плитка разболталась, болтики подкрутить. А отвертка в газету завернута была… Вот. ВАСИЛИЙ. Ну! Что отвертка? НИНКА. Отвертка она и есть отвертка, а газета вот она. /Разворачивает обрывок/. Ой че, ой, че! ГАЛИНА. Ну и че там, че? НИНКА. А вот че! /Читает/. Скандал всероссийского масштаба! /Комментирует/. Вот вам че! /Читает/. На открытое первенство России по мотокроссу, который проходил в нашем городе с 20-го по 25 мая, были приглашены лучшие гонщики планеты, среди них неоднократные чемпионы мира и Европы. Сенсационные победы во всех заездах, во всех видах состязаний одерживал 20-летний представитель нашей области Олег Смирнов. В поисках причин столь успешного выступления никому неизвестного спортсмена, представители оргкомитета потребовали провести допинг контроль и столкнулись с еще большей сенсацией: никакого Олега Смирнова в природе нет! По поддельным документам чемпионкой России стала 19-летняя Оксана Смирнова из деревни Окуньки Понькинского района. Известно, что женского мотокросса, как вида спорта не существует. Спортсменке пришлось вернуть золотые медали, а ее тренер дисквалифицирован и отстранен от работы на два года. ГАЛИНА. Вот че! ВАСИЛИЙ /Оксане/. Так вот оно че! А слезки у нас куда покатились? ОКСАНА. Зачем ты, дядя Вася, меня опять по щеке гладишь? Не гладь. ВАСИЛИЙ. Буду. ОКСАНА. Температуру смотришь? И как? ВАСИЛИЙ. Отлично! ОКСАНА. Мне там один толстомордый сказал: «Была бы ты парнем, мы бы из тебя такую сенсацию сделали, ты бы через пол года в золоте купалась!». А я ему в его толстую морду ответила: «Буду!» ВАСИЛИЙ. Ты молодец, Оксашка, молодец, ты по сути весь мир победила. ОКСАНА. Победила. И правильно они делают, что баб не пускают. Бабы существа самые никчемные. ГАЛИНА. Чего же мы сидим? Пора нам с тобой, Нина, за кчемную Ксюху по рюмашке поднять. /Галина добывает из-под кровати бутылку/. Событие мирового масштаба и мы в нем не чужие. ЛУКЕРЬЯ. А это у тебя откуда? ГАЛИНА. Твой тайник разорила. Обнаружила твой тайник и разорила. ЛУКЕРЬЯ. Вот че! /Ловко заглядывает под кровать, выдвигает оттуда небольшой сундук, достает из него непочатую бутылку, прижимает к груди, смотрит на Галину, понимает, что обманули/. Ишь ты, хитрущая! ГАЛИНА. А вот и все! Рассекретили тебя. Выставляй на стол. ЛУКЕРЬЯ. Я все равно перепрячу. ГАЛИНА /выкладывает на стол огурцы, собирается разлить водку/. Ну, что, Нина, тут пьющих осталось ты да, я, да мы с тобой. Поддержишь? НИНКА. А Витька где? ГАЛИНА /весело/. Нету больше твоего Витьки-Ирода. НИНКА. Чего-то я не поняла, тетя Галя. Ты о чем? ГАЛИНА. Сожгла его Оксанка. Бензином облила и спичкой чиркнула. НИНКА. Тетя Галя так шутить нельзя. Он ведь к вам пошел, Василия к столу звать. Дошел, нет? Чего молчите? Был он здесь? ГАЛИНА. Отметился. Вон на Ксюху посмотри, вся побитая лежит. Сшиб ее вместе с мотоциклом. Как жива осталась, не поймем? НИНКА /Оксане/. Так опять задиралась сама. Я ж просила тебя, не задирайся, Ксюха. А про бензин-то ты мне утром, вот что имела в виду? Я, дура, не поняла. Ты чего его и вправду, что-ли? А почему я дыма не видела? Никакого дыма не было. Я же вон где живу, дым-то я бы увидела. Ксюха, где он? ОКСАНА. Да успокойся ты! Облить облила, а спичка не долетела. НИНКА. Ушел? Живой ушел? ГАЛИНА. Нет, мертвый. Выпей, Нин, успокойся. Ушел, вернуться обещал. /Оксане/. За твои спортивные успехи! ВАСИЛИЙ. За спорт в Понькино! ГАЛИНА. А чего ты так, Вася! Может теперь про нас и вспомнит кто? /Нинке/. Ну, давай, для успокоения нервов.
Галина и Нинка выпивают.
НИНКА. Вернуться обещал. Теть Галь, а что ты так спокойно говоришь. Он ведь не с букетом роз вернется. Сами знаете, как лютеет, что себя не сознает. Что ж делать-то будем? ВАСИЛИЙ. Ждать. НИНКА. Вы, как хотите, я с вами остаюсь. Боюсь я его свирепого.
Лукерья с бутылкой, прижатой к груди, тихонько отступает в сени.
ГАЛИНА. Прятать пошла? Я все равно прослежу. От меня теперь не утаишь. ЛУКЕРЬЯ /вернулась в летнюю комнату/. Уеду я от тебя. Завтра уеду. ГАЛИНА. Куда? ЛУКЕРЬЯ. К дочери уеду. ГАЛИНА. К какой дочери? ЛУКЕРЬЯ. Дочь у меня есть. Хорошая, непьющая. На юге живет. Я к ней прежде ездила, море видела. Они у самого моря живут. С мужем, с внучком моим маленьким в достатке живут. Комнат у них три, кроватей четыре, подушек пуховых восемь насчитала. Одеяла атласные. Во хлеву две коровы, теленков – два. Овец несчитано, курей и уток не меряно. Отдыхать в санаторий ездят. Он у них рядышком. А внучок мой чистенький, ухоженный. Мы с ним к морю ходим. Вода там теплая, ласковая вода. А небо над морем высокое цвету неземного. Дочь меня давно зовет, а я все тут с тобой маюсь. ГАЛИНА /плачет/. Мама, возьми меня с собой. ЛУКЕРЬЯ. Нет, Гальке, ты там все пропьешь. ГАЛИНА /закрывает глаза/. Я все равно с тобой поеду, мама. Возьми. ВАСИЛИЙ /осторожно/. Мама, очнись. Что с тобой? ГАЛИНА. Это же она нас, Василий, в нашем с тобой далеком прошлом видит, и все уехать туда норовит. И чего мы с отцом твоим собачились? Чего делили по – молоду, я сейчас и вспомнить не могу. Ты хоть сам-то себя у моря помнишь? ВАСИЛИЙ. Смутно. Я отчет своей сознательной жизни от Окуневки веду. ГАЛИНА. И отца не помнишь, Вася? ВАИЛИЙ. Ну, показался бы он мне хоть разок потом, может быть, и помнил бы. ГАЛИНА /Лукерье, которая пошла в дом/. Мама, я с тобой. Никуда ты без меня не уедешь. /Оглянувшись/. Вещи пошла собирать. Она у меня часто так уезжает. /Уходит/. НИНКА. Красивый у тебя, Васька, папка был. ВАСИЛИЙ. Ты это откуда взяла? НИНКА. А мы с девчонками в школе так и говорили. Глядели на тебя и говорили: а папка у Васьки красавец, наверное? Ну что, баньку затопить? ВАСИЛИЙ. Травы дома у тебя? НИНКА. И здесь полный набор. ВАСИЛИЙ. Надо воду наносить. НИНКА. Без тебя управлюсь. Да не совестись, так положено. С флягой три ходки будет. Не тяжело. ВАСИЛИЙ. Ты уже над ведрами колдовать начнешь? НИНКА. Так положено. ВАСИЛИЙ. И чего? На самом деле заколдуешь? НИНКА. Заколдую, не заколдую? Но стараться буду. Очень хочется.
Нинка уходит. Василий прикладывает ладонь к щеке Оксаны. Оксана хватает его за руку.
ОКСАНА /неожиданно для самой себя/. Дядя Вася, не ходи в баню. ВАСИЛИЙ. Я подумаю. ОКСАНА. Да нет, если хочешь, иди. И вообще, это я так, пошутила. ВАСИЛИЙ. Оксашка, а пионерка, которую ты на мотоцикле катала – это что, правда? ОКСАНА. Она меня заметила здесь, а потом с дядькой своим познакомила. Он и есть тот самый тренер. Он меня в райцентр вытащил, гараж арендовал под мастерскую. ВАСИЛИЙ. Ну и как он? ОКСАНА. Ты о чем, дядя Вася? ВАСИЛИЙ. Ну, как мужик? Нормальный мужик? ОКСАНА. Дядя Вася, во-первых, он постарше тебя будет, во-вторых, семью свою любит, а в-третьих, мы с ним весь мир сделали! Пол года тренировок, и весь мир! Ты когда-нибудь первым на всем этом шарике земном бывал? ВАСИЛИЙ. Да нет, у меня как-то другие задачи были. И что вот это… будущее он тебе предложил? ОКСАНА. Сама! Я человека, подставила, понимаешь? Мы с ним вернемся! Я все сделаю, чтобы вернуться и доказать этим козлам! ВАСИЛИЙ. Что доказать, Оксана, что до-ка-зать?! ОКСАНА /очень тихо/. Дядя Вася, а доказать, что я там жить могу. Имею право жить там, где есть все! Нет, ты спаси меня, отвези меня к психиатру по блату и верни потом в Окуневку. К нормальной здоровой жизни. Я тебе поклонюсь потом от всей души, скажу: спасибо, спаситель мой, дядя Вася. ВАСИЛИЙ. У меня приятели в Америке живут. Хочешь, я тебя к ним отправлю? В Америке можно все. Там запросто можно новый спорт организовать. Америкосы удивляться любят. Ты их покоришь, Оксана. ОКСАНА. А ты со мной поедешь? ВАСИЛИЙ. Я? Поеду. /Пауза/. Только я там зачем? Для чего я там нужен? ОКСАНА. Пальмы поливать. / Пауза/. Знаешь, дядя Вася, иди ты… в баню. ВАСИЛИЙ. Вот, еще таблетку выпей. Это успокоит. Тебе поспать надо, Оксана. ОКСАНА. У меня, между прочим, компрессы согрелись. ВАСИЛИЙ. Ах, да, я сейчас./Опускает руку в тазик/. И вода согрелась. Я сейчас. ОКСАНА /снимает компресс с лица/. Ты эти забери. /Смотрит на Василия/. ВАСИЛИЙ. Что? ОКСАНА. Ну! Забери. Забыл? ВАСИЛИЙ /снимает компресс с живота, осторожно прикасается ладонью/. Так не болит? ОКСАНА. Иди ты в баню. ВАСИЛИЙ. Я воды холодной принесу. /Уходит/.
Во дворе Галина собирает со стола еду. Проходит Нинка с флягой. Выходит Василий.
ГАЛИНА. Вася. ВАСИЛИЙ. Что мама? ГАЛИНА. Иди сюда. Сядь. ВАСИЛИЙ /присаживается к столу/. Нина, тазик возьми. Замочи тампоны холодной водой. НИНКА. Я и тампоны сама наложу. Вы посидите уж вдвоем. ВАСИЛИЙ. Что, мама, помочь убрать? ГАЛИНА. Да нет, сама справлюсь. Вася, это правда, что ты к нам без водки приехал? ВАСИЛИЙ. Правда. Еды много нести пришлось. ГАЛИНА. Только эта причина? ВАСИЛИЙ. Ну, а какая еще может быть? ГАЛИНА. Я догадалась. Я почти сразу догадалась. /Пауза/. Почти сразу все увидела. /Тихо плачет/. ВАСИЛИЙ. И чего же такое страшное, вдруг, разглядела? ГАЛИНА /сквозь слезы/. Болеешь ты, Вася. ВАСИЛИЙ. Не без этого. По возрасту пора прибаливать. ГАЛИНА. Когда человек прибаливает, водку ему настрого не запрещают? Значит что-то у тебя серьезное, Василий. Ты хоть лекарства-то с собой захватил? ВАСИЛИЙ. Какие лекарства? Отдых мне нужен, тихий хороший отдых. ГАЛИНА. Вон, Нинка тебе баню греет. Леченье начнет подбирать, ей ты в своей болезни признаешься? ВАСИЛИЙ. Признаюсь. ГАЛИНА. А меня ты, Вася, сынок, так и не пригласил к себе погостить. Долго еще ждать приглашения? ВАСИЛИЙ. Некуда мне тебя звать, мама. ГАЛИНА. Ты что такое говоришь? ВАСИЛИЙ. Я при поликлинике, в комнатке живу. Не оперирую больше. Руки трясутся. Вот такая проза. День живу, чтобы после работы сотку хлебнуть, за ней вторую, третью пока в сон не упаду. С утра щетину со щек отскребу, зубы вычищу и к пациентам. Благо маска на носу. Но глаза-то не спрячешь.
Из дома вышла Нинка. Тихо подошла к ним. Не смеет перебить.
ГАЛИНА. А я смотрю: постарел ты, сынок. Утомился, думала от большой работы. ВАСИЛИЙ. Утомился и всех утомил. От Насти в последнее время только три слова и слышал: «Папа, ложись спать». А что им от меня доставалось? Запах перегара, да зрелище отца деграданта. Я сам все чувствовал. Чувствовал, что теряю, все теряю: память, координацию, работу, детей, будущее. Из семьи я сам ушел. Думал, затоскую, очнусь, очухаюсь. Куда там? Еще круче понесло. Проснулся вчера. Душа в стыде похмельном ясности запросила. Где ее искать? Тьма кругом. Куда ни ткнись – тупик. И вдруг, как осенило! Лицо твое увидел, наш дом, бабушку. Главному заявление на отпуск отписал. Он друг мой, однокурсник. «Давай», – говорит: «Васек! Это шанс. Езжай, отдышись и возвращайся». Я, почему к вам в ночь от райцентра пешком пошел? Там теперь на каждом углу чепок круглосуточный. Чтобы на рюмку не сорваться. Я же день продержался. Какой-то силой несло к вам. Простора хотелось, воздуха, леса, баньки. Мне бы месяц продержаться, мама, я бы воскрес. НИНКА /присаживается рядом с Василием, ласково кладет ему голову на плечо/. Извини, Вася, я все слышала. Змия твоего мы одолеем, в считанные дни одолеем. Изгоню я его из тебя, выпарю гадину и придушу. ГАЛИНА. Да хоть сколько парь, да хоть все дрова спали. Это по какой неправде мы жизнь свою живем, что ее постоянно водкой запивать приходится? Ты же не грешил, сынок. Ты же людей лечил. Тебе за что это? НИНКА /зевает/. Все сегодня ранехонько встали. Нам бы всем до вечера прикорнуть, а то дежурства не выстоять будет. ГАЛИНА /завернула в скатерть, собранную посуду/. На, Василий, отнеси на кухню, и приляг уже. Права Нина, ночь беспокойной может стать.
Василий уносит скатерть в дом.
Нинка, а правда, от этого вылечить можно? НИНКА. Так ведь лечат. ГАЛИНА. А чего ты меня до сих пор не пыталась? НИНКА. Исцеления сам больной захотеть должен, без этого бесполезно. ГАЛИНА. То есть по настоящему захотеть? Насовсем? Вот так, как Василий? НИНКА. Только так, иначе не получится. Так что ты решай, тетя Галя, а я пойду травами займусь. ГАЛИНА. Я решу. Я захочу, Нинка. Я обязательно захочу.
Нинка уходит в баню. В окно дома выглядывает Лукерья.
ЛУКЕРЬЯ. Гальке! ГАЛИНА. Опять Гальке! В моем возрасте людей по имени отчеству зовут, а ты все Гальке, да Гальке! Чего не спится тебе? Так хорошо похрапывать начала. ЛУКЕРЬЯ. А пошто Нинка опять в баню дрова понесла? Все дрова изведет. ГАЛИНА. Пусть изводит! Лечить она меня будет! И Василия лечить? ЛУКЕРЬЯ. Ты пошто на мать кричишь? ГАЛИНА. А ты прекрати меня Галькой звать! ЛУКЕРЬЯ. Ты лучше скажи: куда вещи мои подевала? ГАЛИНА. Куда-куда? Разложила все назад по местам. ЛУКЕРЬЯ. Я все одно от тебя уеду. Василий!
Лукерья уходит в летнюю комнату. Туда же поднимается со двора Галина. Там Василий с Оксаной.
ГАЛИНА. Ну, куда ты опять собралась? ЛУКЕРЬЯ. На мыло. ГАЛИНА. Ты что у меня собака, что ли? ЛУКЕРЬЯ. Не стыдно мать собакой обзывать? ГАЛИНА. Так сама на мыло собралась. ЛУКЕРЬЯ. Василий. ВАСИЛИЙ. Слушаю, слушаю, бабушка. ЛУКЕРЬЯ. Скажи, старух нынче на мыло принимают? ГАЛИНА. И не стыдно тебе говорить об этом? Откуда ты такое взяла? ЛУКЕРЬЯ. Писатель по телевизору выступал. Всех старух призвал к такой пользе. ГАЛИНА. Так ты же телевизор не смотришь. ЛУКЕРЬЯ. А мне Витька Ирод сказал. Не успел, говорит, писатель выступить, а старухи уже и в очередь встали. ВАСИЛИЙ. Это где, бабушка, они встали? ЛУКЕРЬЯ. Как это где? Известно: где. В Москве. Где ж им еще в очередь вставать? ГАЛИНА. Горе, ты мое луковое. Может лучше к дочери, к морю поедем? ЛУКЕРЬЯ. Поеду, а тебя не возьму. ГАЛИНА. Ну, пойдем вещи собирать. ЛУКЕРЬЯ. Дрова спалите вот и вымерзайте в зиму без меня, а я уеду. ГАЛИНА /Василию/. Я бабку уложить попробую, двери закрой и тоже приходи. Надо отдохнуть, Василий. ВАСИЛИЙ. Надо, мама.
Галина уходит вслед за Лукерьей. Василий закрывает дверь, ведущую во двор из сеней, затем идет закрывать дверь из хлева.Там возле бани Нинка сортирует и обрабатывает травы, раскладывает их по ковшам и кружкам.
НИНКА. Вась, эту дверь ты для надежности бревнышком подопри. Один шпингалет он пальцем вышибет. ВАСИЛИЙ. Нинк, а чем он тебя привлек? НИНКА. Вася, нам с тобой по сорок. Ты представь себя бабой, и чтобы вот такой тридцатилетний к тебе из лесу вышел, да в такой глуши. ВАСИЛИЙ. Я, пожалуй, воздержусь. НИНКА. Чего? ВАСИЛИЙ. Бабой себя представлять, вдруг понравится. НИНКА. Ну, тогда сам с собой объяснись: чего к Оксанке прилип? Вот тебе и ответ будет. ВАСИЛИЙ. Я, может быть, с исключительно лечебной целью. НИНКА. Исключительно с лечебной целью я ей травок наварю и скорей твоих компрессов на ноги поставлю. Иди, поспи немого, скоро банька поспеет, травушки, да корешки заварятся, настоятся. Только ты учти: есть которые наружные, а есть и те, что вовнутрь принимать придется. /Нинка подавила в себе смешок/. Для омоложения, Вася, готовься в кипятке повариться. ВАСИЛИЙ. Поваримся, коли надо. Ты чего хохочешь? Травы у тебя, поди, приворотные? НИНКА /подавляя, очередной смешок/. Тебя приворотные, Вася, в таком состоянии не возьмут. ВАСИЛИЙ. В каком таком? НИНКА. Пойди в зеркало загляни. ВАСИЛИЙ. А чего в зеркале? НИНКА. Пол дня на кота похожий ходишь. ВАСИЛИЙ. Да ну тебя?
Василий возвращается в летнюю комнату. Оксана лежит лицом к стене.
Ну, как ты здесь? /Шепчет/. Спишь?
Оксана стучит пальцем по стене.
ВАСИЛИЙ. Что? Плохо? /Присаживается на кровать. Прикасается к ее лицу/. Оксашка, ты чего? Ты плачешь что ли? ОКСАНА /разворачивается к нему лицом, садится, вжимаясь в угол/. Стены. ВАСИЛИЙ. Ну, стены. Что стены? ОКСАНА. Деревянные. В одну доску сшиты. ВАСИЛИЙ. Понимаю: в одну… ОКСАНА. Слышимость-то, как на улице. Лечить меня приехал? А на мне уже все зажило, как на кошке. Хочешь, покажу? /Она бравадно порывается соскочить с кровати, но хватается за живот, корчится/. Ой! ВАСИЛИЙ. Лежи, не двигайся. Спокойно. Я сейчас тебе разогнуться помогу. Сейчас, сейчас, вот так, спокойно… ОКСАНА. Дядя, Вася, миленький, не трогай ты меня. Не нужен ты мне, и Америка твоя не нужна. Уходи, я прошу тебя, уходи! ВАСИЛИЙ. Давай сразу пару успокоительных таблеток примем. Тебе поспать надо. Нина тебе там тоже что-то от ушибов заваривает. ОКСАНА. Варите вы себе здесь что хотите! Хоть утопитесь в своем вареве. Не нужны вы мне все! И Америка твоя не нужна. Потому что она твоя. Противная значит. ВАСИЛИЙ. Ну, ладно, ладно. Успокойся. Попробуй заснуть. Вот дракона победим, тогда между собой разберемся, а пока нам всем поспать надо. Я дом обойду. А ты заснуть попытайся.
Василий спускается в хлев, там Нинка прикорнула на лавке, подложив под голову мешок. /Шепчет/. Нина, Ни-и-и-ин! НИНКА /сквозь сон/. Вась, я там задвижку закрыла, все нормально. Не мешай, пока приморило, мне полчасика хватит. ВАСИЛИЙ. Спи, я подежурю.
Василий заходит в дом, там Лукерья и Галина тоже спят на своих кроватях. Он возвращается в сени, в это время где-то недалеко раздается пронзительный вой.
ОКСАНА /зовет/. Дядя Вася. ВАСИЛИЙ. Здесь я. /Возвращается в летнюю комнату/. ОКСАНА. Слышал? ВАСИЛИЙ. Да. Собака воет. Откуда здесь собака?
Вой повторяется.
ОКСАНА. Это не собака. ВАСИЛИЙ. Неужели волк? ОКСАНА. Нет, не волк.
Они прислушиваются к тишине. Вой повторяется.
Точно – это не волк и не собака. ВАСИЛИЙ. Откуда такая уверенность? ОКСАНА. Волков мы тут зимами наслушались. Они не так воют, а что не собака, ты сам слышишь. ВАСИЛИЙ. Оксанка, Леший на кого-то осерчал. ОКСАНА. Вот ты шутишь, а мне страшно. Я вообще-то не пугливая, но от этого воя у меня какая-то жуть в душе поднимается. ВАСИЛИЙ. Давай я тебя в одеяло укутаю. В детстве теплое одеяло надежной защитой от бабайки казалось. ОКСАНА. Ага, и от всякой нечисти, которая в окна заглядывала и под кроватью пряталась. ВАСИЛИЙ. Ну, вот и укутывайся, давай. /Помогает ей укутаться в одеяло/. ОКСАНА. Здорово! /Укуталась, смотрит на Василия/. Дядя Вася, я маленькая? ВАСИЛИЙ. Маленькая, маленькая, совсем ребеночек. ОКСАНА. Тогда сказку рассказывай. ВАСИЛИЙ. Сказку? А ты, какие сказки любишь?
Вой повторяется.
Про серого волка хочешь? ОКСАНА. Нет, лучше про какое-нибудь королевство, где короли, принцессы, принцы, дворцы, балы и все красиво, и пусть там пальмы будут. ВАСИЛИЙ. Ну да, сейчас. /Присаживается к противоположной спинке кровати. Зевает/. Как же без сказки? Без сказки теперь никак нельзя. Извини. Жил был король. Как положено королю, он имел королевство, такое хорошее. И была у него жена королева и дети королевичи. В королевстве жили люди добрые, умные, талантливые, а главное были они королю не то чтобы подданными, были они королю настоящими друзьями и, наверное, поэтому солнце над тем королевством круглый год светило ярко и тепло. И жили там все в достатке. Но это не главное. Отличалось то королевство от других, тем, что каждого жителя там ценили за способность любить ближнего. И было это королевство обречено стать вечным, потому что любовь бессмертна. Там, где счастье обретает свободу в людях, всегда кружит вокруг да около страшный Зеленый змий. И подкараулил он короля, и проник в него, и ослабил волю, и завладел желаниями… И потерял король свою великую связь с дневным светилом солнцем… /Василий, так сидя и засыпает/. ОКСАНА. Дядя Вася. /Смотрит на него, затем укрывает одеялом, тихо зовет/. Дя-дя Ва-ся.
Смотрит, потом тихонько прижимается к нему и, вскоре тоже засыпает. В сени выходит Лукерья. Совершает обход.
ЛУКЕРЬЯ /смотрит на Галину/. Дочь моя, Галина. Отца с войны не дождалась. От мужа гуляки уехала. Сына вырастила. Господи, дай сил жить в ясности ума, избавь от зелья. /Перекрестила Галину, пошла дальше/. Внук мой Василий. Стал старше деда своего земными годами. Господи, продли дни его на белом свете. Людей лечить, детей растить…/перекрестила/. Оксана, сиротинушка /крестит много раз/, лютый одолел. Одолей его Господи, спаси душу чистую. /Спускается в хлев, смотрит на Нинку/. И эту одолел. Господи, охолонь ее водицей студеной, когда в кипяток окунаться пойдет, от испуга рассудок-то просветлеет…
Лукерья прислушивается к звуку шагов за стеной хлева, берет деревянные двурогие вилы идет вдоль стены, останавливается. С наружной стороны кто-то, начинает отдирать доску, отводит ее в сторону и, просовывает голову на уровне земли. Это Ирод. Лукерья ловко ставит вилы рогами в землю, так, что они охватывает шею Ирода.
ИРОД. Ты кто? ЛУКЕРЬЯ. Ясно кто: человек! ИРОД. Бабка, ты что ли? ЛУКЕРЬЯ. А то кто? ИРОД. А это что? На шее у меня: что? ЛУКЕРЬЯ. Погибель твоя. ИРОД. Люди где, люди? ЛУКЕРЬЯ. Спят люди. ИРОД. Ты не шуми бабка, не буди. ЛУКЕРЬЯ. А не будить пошто? Тебе кого надо? ИРОД. Бабка, Оксанка здесь? Мотоцикл ее здесь, я следы видел. ЛУКЕРЬЯ. Спит сиротинушка. ИРОД. Разбуди. ЛУКЕРЬЯ. Ты голову-то свою кверху выверни. ИРОД. Не могу. ЛУКЕРЬЯ. Тело-то на землю приложи, а голову выверни. ИРОД. Зачем. ЛУКЕРЬЯ. Тогда скажу. ИРОД /приникает ближе к земле, поворачивает голову/. И что, бабка? ЛУКЕРЬЯ. Вон, на елофане под потолком видишь? ИРОД. Целлофан, что ли? Вижу, ну? ЛУКЕРЬЯ. А брюхо белое на нем, видишь? ИРОД. Вижу. И что? ЛУКЕРЬЯ. Хомяк. А теперь помолчим и послушаем.
Ирод прислушивается. Лукерья тем временем всаживает вилы глубже в землю, а черенок привязывает бечевкой к бруску на стене.
ИРОД. Ты чего делаешь, бабка? ЛУКЕРЬЯ. А ты слушай, слушай. ИРОД. Да слышу, я шуршанье какое-то. ЛУКЕРЬЯ. Вот и хорошо. Хомяки идут. ИРОД. Какие хомяки, бабка, ты чего? Пусти, больно мне. ЛУКЕРЬЯ. Я сейчас тебе с обратной стороны штаны спущу, пущай хомяки полакомятся. А успевай, сиротинушку зови, что есть мочи зови, успеет простить, простит. ИРОД /громко шепчет/. Ага, простит, она простит, а хомяков кто отгонять будет? ЛУКЕРЬЯ. А нагрешил, терпи теперь. ИРОД /шепчет/. Тихо, тихо, тихо! Ты дура, бабка, у тебя крыша едет. Тебе нельзя самостоятельно решения принимать. Ты с людьми посоветуйся. У тебя крыша едет. Ты куда, бабка? Стой, бабка! /Кричит придавленным к земле горлом/. Люди! Люди! Мать вашу!..
В хлев выходит Василий.
ВАСИЛИЙ. Кто кричал, бабушка? ЛУКЕРЬЯ. Пойди сам погляди, вон под стеной голова торчит. ИРОД /сдавленно шепчет/. Здесь я, Вася, здесь. ВАСИЛИЙ /подходит/. Ничего себе. Ты чего, перепил? ИРОД. Бабка пленила. Отпусти, Васек. ВАСИЛИЙ. /Лукерье/. Спасибо, бабушка. /Ироду/. Финка где? ИРОД. Здесь, со мной. Руки-то вот они здесь за стеной. ВАСИЛИЙ. Ну, достань. ИРОД. Ну, достал. ВАСИЛИЙ. Подсунь под доску-то. /Ирод пытается что-то просунуть под стену/. Правильно, подкопай и рукояткой двинь вперед. /Ждет. Берет финку из-под стены/. Молодец. Сам уйдешь или проводить? ИРОД. Уйду. Девчонку позови. ВАСИЛИЙ. Девчонку тебе зачем? ИРОД. Если я тебе скажу, что сейчас к ней шел, ты поверишь? ВАСИЛИЙ. Зачем шел? ИРОД. Освободи меня. Боишься, да?
Василий отвязывает вилы, выдергивает их из земли. Ирод некоторое время восстанавливает нормальное дыхание, просовывает руку, разглаживает шею.
Не бойся меня. Я это не я. То есть Ирод – это не я. Пусти. /Ирод залезает в хлев/. Где она? ВАСИЛИЙ. Спит. ИРОД. Выпить есть? ЛУКЕРЬЯ. Нету. ИРОД. Правильно бабушка. Нету, так и не надо. ВАСИЛИЙ. Бабушка, принеси нам выпить и… две стопки. /Ироду/. С миром пришел? ИРОД. Хуже. Не могу больше. Все! И так покойник и так покойник! Никакой разницы. ВАСИЛИЙ. Кто покойник? ИРОД. Да я, я покойник! Не могу больше. Позови девчонку. ЛУКЕРЬЯ /приходит с бутылкой, стаканами и тарелкой с овощами/. Уговорил, Василий. /Указывает на Ирода/. Он ведь тоже сирота. ИРОД /Василию/. Выпьем? ВАСИЛИЙ. Пей. Я сейчас. /Поднимается в летнюю комнату, смотрит на Оксану, гладит ее по щеке/. Дурочка моя светлая. ИРОД /наливает себе стопку/. Бабушка, будешь? ЛУКЕРЬЯ. Еще чего? Ты уж сам. А лучше спиртом шею разотри, полегчает. Больно я тебя? ИРОД. Терпимо. Вовнутрь тоже полегчает. /Ирод пьет, закусывает/. ОКСАНА /просыпается/. Дядя Вася, ты король? ВАСИЛИЙ. Был. ОКСАНА. Змей сильнее тебя? ВАСИЛИЙ. Мне сейчас приснился волшебник и сказал, что змея в себе я одолею, а силу для победы обрету от юной принцессы, но при одном условии: если спасу ее от страшного недуга. ОКСАНА. А ты спаси. ВАСИЛИЙ. А ты согласна? ОКСАНА. Не знаю. ВАСИЛИЙ. Пойдем со мной. ОКСАНА. Ты меня еще погладь по щеке. Так папка гладил. ВАСИЛИЙ /гладит Оксану по щеке/. Пойдем? ОКСАНА. Пойдем.
Они выходят в хлев. Оксана видит Ирода.
ОКСАНА. Это что? Зачем он здесь?
Ирод хватает вилы, бросает их к ногам Оксаны. Она успевает на мгновенье испугаться, поднимает вилы для возможной самозащиты. Просыпается Нинка. Выходит Галина. В этот момент Ирод падает перед Оксаной на колени.
НИНКА /отходя ото сна/. Батюшки мои это что же это? ИРОД /Оксане/. Ударь меня, ну врежь, как следует. ОКСАНА /не может даже замахнуться. Видно, что состояние ее души диктует женскую пластику/. Дядя, Вася чего ему надо? ГАЛИНА. А ты дай ему по башке, как следует. Заслужил. НИНКА. Куда еще по башке? Вы что не видите: он и так с ума съезжает. ИРОД. Все не так, Нина, все не так. Я, наоборот, в разум вернуться хочу. ЛУКЕРЬЯ. Вот и возвращайся с миром своей дорогой, без проводников ступай. ИРОД. Без проводников пойду. Прости меня, Оксана. Если можешь… ЛУКЕРЬЯ. Гальке, у него и вправду в рассудке туман завелся. /Ироду/. Ты хоть помнишь, что сиротинушку едва на смерть не заморозил? ИРОД. Помню. ЛУКЕРЬЯ. А сегодня с моциклетки сшиб, точно душегуб какой. ИРОД. Душегуб я и есть, бабушка. Только душу свою собственную сгубил. Простите за все, если можете. Прощайте. НИНКА. Витя, ты куда? ИРОД. Не знаю. НИНКА. А не знаешь так и ходить нечего. Пошли домой. ИРОД. Не могу. Понимаешь, не могу я так больше. ГАЛИНА. Вот так на тебе! А мы здесь как теперь без тебя? Витька, ты не прав! ИРОД. Да не Витька я и не Ирод, и не бандит. Я сам здесь от них скрываюсь. ВАСИЛИЙ. От кого? ИРОД. Ты, наверное, слышал, есть такой в области Сява Лютый. ВАСИЛИЙ. Еще бы! Он у них фигура номер один. И что у тебя с ним могло быть общего? ИРОД. В том-то и дело, что ничего. Случай. Пассия его на меня запала. Всем хороша была девка. Переспал разок. Да и не знал я, что она его. Вот и попал. Бить меня стали. Регулярно. Профессионально. Без синяков. «Стрелять», – говорили: «мы тебя не будем, резать тоже не будем, потихонечку все отобьем, сдохнешь сам». Скрываться тоже не советовали. Вот я в глушь и подался, а для надежности легенду сочинил, будто из зоны откинулся, а пристроиться негде. НИНКА. Я ведь чувствовала, что ты не зверь. Сердцем чувствовала. Что же ты мне не открылся? ИРОД. Так ведь все нормально было. Вы же все нормально меня таким приняли. Только вот Оксанка сценарий ломала: все задиралась, да задиралась. Мне по логике вещей, если урка я настоящий, ее прихлопнуть или изувечить надо было. Я сам к тому времени заметил, что с образом сживаюсь, в чем-то начинаю терять себя настоящего. Это страшно, поверьте, когда ты сам в себе начинаешь убывать. Решил двух зайцев убить. Открыться и конфликт погасить. /Оксане/. Если бы тогда, зимой ты меня выслушала, у нас бы с тобой на двоих хорошая тайна появилась. ОКСАНА. Не нужны мне твои тайны. ИРОД. Сам виноват, понимаю. Подхода не нашел. И сегодня тоже… ГАЛИНА. Добра от тебя не видел никто, вот и не ждем. ИРОД. Ну да, сами вы добрые. Вон бабка меня сегодня хомякам скормить хотела. ОКСАНА. Так это ты выл? ИРОД. Я. Нагулялся в лесочке, сел под березу, спичкой чиркнул, а бензин не горит. Выдохся. НИНКА. Спалить себя хотел? ИРОД. Собой-то мне уже не быть, а зверем – невмоготу. ВАСИЛИЙ. Ну, здравствуй, Александр Архангельский. /Протягивает руку/. ИРОД /шарахается от приветствия/. То есть? Я не понял. Что это значит? ВАСИЛИЙ. Привет тебе от Сявика Лютого. ИРОД. А ты… Вы что, тоже в законе? ВАСИЛИЙ. Еще в каком. Клятву Гиппократа давал. Я личный лечащий врач твоего палача. ИРОД. А волосы у него какого цвета? ВАСИЛИЙ. Волосяной покров на голове у него отсутствует, на левой щеке глубокий шрам, когда говорит, слегка картавит… ИРОД. Вложишь? ВАСИЛИЙ. С удовольствием. Тем более, что пассию ту он от себя отлучил, уж больно охоча до мужиков она оказалась. А вот ты ему проблему создал выше крыши. Человек ты в городе видный, слухи до сих пор не утихают. Сявику такая слава ой, как не нужна! Так что предъявить тебя живым обществу и вернуть к нормальной жизни для него теперь большая радость. ИРОД. А не врешь? ВАСИЛИЙ. Клянусь Гиппократом. НИНКА. А чем же видным там у вас был наш Витя-Ирод? ВАСИЛИЙ /Ироду/. Завершишь исповедь или мне помочь? ИРОД. Да, как-то оно ни к чему, вроде. ВАСИЛИЙ. Ну ладно. Представляю публике одного из лучших актеров областного театра Александра Архангельского. Как, говориться: прошу любить и жаловать.
Пауза.
НИНКА. Да мы уж тут напожаловали. Ты прости Саша-Витя, если что не так. ИРОД. Ты прости меня, Нина. НИНКА. Нам-то что? Мы тут свой век довекуем, докукуем. ГАЛИНА. Да погоди грустить, пора плеснуть по стопочке. НИНКА. А ежели лечиться намерена, тетя Галя, так тебе нельзя! Воздержаться следует. ГАЛИНА. Вот вознамерюсь скоро, тогда и воздержусь. Событие-то какое! Нин, с одной стороны чемпионка мира, с другой – Ирод, который не Ирод вовсе, а большой человек, и мы во всем этом, вдруг, не чужие. Давайте люди дорогие, за Окуневку!
Галина с Иродом выпивают. Вслед за ними поднимает стопку Нинка.
НИНКА. За счастье наше мимолетное. ЛУКЕРЬЯ /Галине, тихо/. Он чего начальником что ли оказался? ГАЛИНА. Еще каким! Областным! ЛУКЕРЬЯ. По какой части? ГАЛИНА. По всем частям одновременно. ЛУКЕРЬЯ. Да будет тебе над матерью-то надсмехаться. А ты его, Нинка не отпускай. Это что ж теперь к нам опять лешаки пойдут железо воровать, огороды зорить, да траву жечь. НИНКА. Он меня теперь и не спросит. ИРОД. А, если спрошу? НИНКА. Да ладно тебе шутковать. ИРОД. Я серьезно, Нин, я просто в себя еще не пришел, не освоился в новых возможностях, погоди немного. НИНКА. Пойдем, попарю тебя на прощание. Следующая ты, тетя Галя. А тебя Василий на десерт сегодня. ИРОД. Идем? НИНКА. Ну, идем!
Ирод и Нинка уходят в баню.
ВАСИЛИЙ /Галине/. Я, тебя мама и бабушку с собой заберу. ГАЛИНА. Куда? В комнату при поликлинике? ВАСИЛИЙ. Разберемся. ЛУКЕРЬЯ. Ты нас, Василий, с собой не зови. Нам поросей до морозов кормить надо. Да еще вот, кот Буська, куда-то запропал. Не любит гостей. Схоронился где-то. Буська! Бусой! Кыс-кыс-кыс! Где же ты, враг такой? Кыс-кыс-кыс!
Лукерья уходит искать кота. Галина подходит к лестнице, ведущей в сени.
ВАСИЛИЙ. Мама у меня месяц впереди. Я воскресну. Нинка поможет.
Галина поднимается по лестнице, у входа в сени останавливается, оглядывается на Василия.
Я завяжу, мама и тебя спасу.
ГАЛИНА. Я не поеду, Вася. Пальмы здесь без меня умрут.
Галина уходит.
ВАСИЛИЙ. Я спасу тебя, мама.
Пауза.
ОКСАНА. Дядя Вася, я в Америку хочу. ВАСИЛИЙ. Серьезно? ОКСАНА. Ну да! А ты со мной поедешь? ВАСИЛИЙ. Кем я тебе там буду? Папой что ли? ОКСАНА /в интонации Василия/. Разберемся. /Пауза/. Хочешь, я тебя на мотоцикле прокачу? ВАСИЛИЙ. Честно? ОКСАНА. Ну, а как еще? ВАСИЛИЙ. Боюсь. С тобой боюсь. ОКСАНА. Со мной, дядя Вася, ничего бояться не надо. Ты же знаешь, что я сильная. Я, если надо, все смогу и не только для себя. Я все смогу. ВАСИЛИЙ /обнимает ее за плечи/. А еще ты добрая, умная девочка, ты вообще такое чудушко, которое и в руках-то держать боязно.
Оксана прижимается к нему. Василий, как бы вдыхая всю ее в себя, запрокидывает голову.
Звезда упала. ОКСАНА. Желание загадал? ВАСИЛИЙ. Успел. ОКСАНА. И про меня тоже. ВАСИЛИЙ /не сразу/. И про тебя… ОКСАНА /не сразу/. Я все равно тебя в Америку увезу. Поехали. /Тащит его за руку к мотоциклу/. Не бойся. Мы с тобой сейчас разгонимся и через все океаны перелетим. /Осанна толкает мотоцикл к выходу/. ВАСИЛИЙ. А, если не перелетим, если в какой-нибудь бугор врежемся. Для меня, честно сказать, это даже выход, а за тебя страшно. ОКСАНА /ставит мотоцикл, подходит к Василию/. Что для тебя выход? Что выход?! А я тогда куда? Будешь слюни пускать, дядя Вася, я тебя разлюблю. ВАСИЛИЙ. Прости. Можно я за руль сяду? ОКСАНА. Класс! /Целует Василия в щеку/.
Они выталкивают мотоцикл. Заводят его. И, слышно, как неуклюже управляет им неопытный водитель. Из бани выходят Нинка и Ирод. Они в простынях. Садятся на скамейку.
ИРОД. Уф-ф-ф! Отдышимся. НИНКА. Зря ты Саша-Витя меня куда-то звать стараешься. Это в тебе совесть не до конца истребленная, голос подает. Буду я там среди поклонниц твоих теткой от навозной кучи? ИРОД. Ты, Нина, молоком пахнешь. НИНКА. Ага, простоквашей. ИРОД. Нин, я ведь не женат. НИНКА. Тебе это ни к чему, ты там и количеством и разнообразием богат. ИРОД. Да нет. Зарплата у меня для полноценной семьи маленькая. НИНКА. Ага! Вижу я по телевизору артистов, по каким они дачам обитают! ИРОД. Так то же звезды. НИНКА. А тебе чего раззвездиться мешает? ИРОД. Судьба, наверное. НИНКА. Пошли. ИРОД. Дай подышать. НИНКА. Пошли пока я судьбу твою могу схватить и на успех заколдовать! ИРОД. Да погоди ты. НИНКА. Иди!
Нинка заталкивает Ирода в баню. Выходит Лукерья в руках у нее большой бусый кот.
ЛУКЕРЬЯ. Ну, что Бусой? Да не бойся ты. Мы еще поживем. Понаехали, весь наш лад порушили. Худо, бедно, а в ладу жили, правда, Бусой? Ну, ничего. Все будет по-прежнему. Солнышко встанет, и мы поднимемся, солнышко зайдет, и мы утихнем. А за нами труды дневные останутся: земля ухоженная дышать будет, плоды в ней станут поспевать, дерева на ней крепнуть, порося подрастут, так, глядишь все вокруг и заладится, а в ладу земном приютится жизнь. Настоящая.
На авансцену выходит Василий, говорит в зал.
ВАСИЛИЙ. Маму я не спас. Она умерла через год, после смерти бабушки. Я вернулся в семью. Ирод – в театр, успешно играет героев любовников. Нину забрала к себе дочь. Удивительно, но с Иродом они встречаются. Неделю друг без друга прожить не могут. Оксана уехала в Америку. У нее все сложилось хорошо. Побеждает в соревнованиях, имеет собственное шоу. Купила землю в северном штате. Там природа такая же, как у нас. Построила шикарный коттедж, а напротив вот такие же домики. Прислала мне по интернету фотографии. Зовет к себе. Грозится все бросить и вернуться на родину, если я не приеду. Но это уже другая история.
КОНЕЦ
|
|
Белым-бело по всей земле. По всей России легли снега. А вчера еще я хлюпал сапогами по жидкой московской кашице, но – поезд на восток, и целые сутки за окнами белым-бело. Сто километров автобусом в сторону от железной дороги и вот: вьюга за окном раскачивает голую лампочку уличного фонаря, живой огонь в печи, над столом хлопочет мама. «Вчера соседи откапывали» – говорит она. «Отгребали», – поправляет бабушка, перелистывая хрестоматию древнерусской литературы: «Вот ведь что теперь!» – в ее удивлении таится радость: «Неужто: по церковным книгам учат?» «Учат»,- признаюсь я. Мир доживает от рождества Христова 1986 год. «Ты с ней не шути», – улыбается мама: «Она мне тут со своим Богом плешь проела». «Так ведь учат?» – насторожилась бабушка. «Учат, бабушка, учат». «А у нас вон, беда, какая: Галька-то от обезьяны произошла». « А-то не от обезьяны?» – торжествует мама: «Все от обезьяны. Это наукой доказано». «От кого же по вашей науке бес произошел? Тоже от обезьяны?» «Уж он-то точно от нее». «Ты глянь до чего умом доплутала», – обращается ко мне за сочувствием бабушка: «Уже и с бесом породнилась». Улица дышит вьюгой, будто кто-то до жути огромный силится объять собой этот хрупкий мир. Стропила скрипят на чердаке. Дым от моей «Примы» синей струйкой утекает в печной затвор. Бабушка выставляет на стол банку сгущенки. - «За дедушку к девятому мая выдали». - «Ну, так, ели бы сами» - «Открывай», – празднично подбадривает мама: «Бабка тебе с весны берегла». А под синий столбик сгущенки, чугунная сковорода с яичницей на сливочном масле и здешний хлеб. Пахнет хлебом. За окном метет. Лоскут света норовит оторваться от лампы под колпаком. Бросаю окурок в печь, поднимаюсь к выходу. - «Ведро в сенях» – говорит мама. Сенцы маленькие, здесь ведро, если не помнить где, задену, опрокину, но пахнет деревом от шершавых стен, толкаю дверь на улицу, она срезает снег на крыльце. Светло от снега. Метла в углу, ее не замело. Выметаю порог, выхожу. Стужа вьется со всех сторон, проникает струями под одежду, гладит кожу на спине. Дальше – ступени. Над ними нет козырька, там небо. Оно навалилось на землю, и треплет все живое. Сколько смог смел, а тут слегка належалось, нарубаю снег на куски с четырех сторон, поддеваю снизу и бросаю подальше, очистил ступени, увлекся, пошел в снега до сараев. Один с лопатой, ушел по пояс! Не разгрести, не размахать. Безнадега. От взмахов лопаты летит пурга под вьюгу. Опомнился. По ложбинке, щупаю ступнею твердь, гребу назад. К теплу, к дому. - С ума сошел? - Кричит с крыльца мама: Давай сюда! И тянет руку, в мое снежное безумие. Затворяем все двери. Кухня окутала теплом. Стулья, стол, шкаф остались от прадеда Петра. Он выводил их красоту на токарном станке долгими зимними вечерами. Были у них еще мельница и кузница, жили они одним домом, работников не нанимали, сами справлялись, хватало сил. - Ешь,- говорит бабушка: «Стынет». Остывает яичница. Не открыт синий столбик сгущенки – памятник деду Григорию. - Что вы ели в прежние времена, пока еще у вас все свое было, готовили что? - Постились подолгу, – вспоминает бабушка, - Тогда бывало и свеколку, и капустку, и горох. Тюрю с лучком запаривали. - Богато жили. Могли и пощадить себя в посты. - Когда мельницей, да кузней владели, да вот еще прадед твой Петр успевал мебель мастерить, достаток хороший был. - А в посты свеколку и тюрю? - Так вот и щадили себя – поясняет бабушка, – жили-то в радость. - Как советская власть пришла в деревню, помнишь? Бабушка задумалась и тихо ответила: - Незаметно. Долго вилась, извивалась эта власть вокруг крестьянства, расставляла западни: от лукавых ленинских декретов до коварного сталинского «Земельного кодекса», бичевала продразверстками, жалила продналогами, пока не догадалась нахлобучить на деревню крепостное право в образе коллективизации. - В двадцать восьмом, все-таки, они заметно пришли? - В двадцать восьмом у нас с Григорием первенец родился, дядя твой Михаил. – Бабушка, вдруг, слегка взволновалась: «Задумали мы тогда к отцу Петру обратиться. Чтобы просьбу нашу принял и благословил, а он как раз в райцентр собрался, погодить просил до его возвращения». Ехал прадед в райцентр, умом своим проверить слухи, зашелестевшие среди людей. Вернулся и выслушал сына. - Благослови, отец, жить хочу своим домом. Отдели мне кузню. Горько ответил прадед деду моему: «А жизнь-то, Гриша кончилась». Ухожу к печи, закуриваю свою «Приму». Течет синий дымок в затвор. - А ты говоришь, незаметно, – укоряю бабушку. - Подкрались незаметно. Жили-то мы хорошо: землица под нами, трудом и достаток прирастал. Зла от нас никому не было, ни от кого его и не ждали. А в тридцать третьем родилась моя мама, она деда своего Петра на этой земле не застала. Запил непьющий Петр и какая-то неизлечимая хворь быстро иссушила его. Сын его Григорий так и остался при кузнице железо ковать за колхозные трудодни. Ветер за окном стихает, снег валит крупными хлопьями. Лампа висит на столбе под своим колпаком, гладит светом снежинки. - Ты, каким отца своего запомнила? – спрашиваю маму. - Сильный он был, большой. Помню, цирк в деревню приезжал. Там силач, который гирями играл, попросил выйти к нему кузнеца. Папа вышел. Силач ему на самую большую гирю указал. «Поднимешь?»,- спрашивает. «Подниму», – отвечает папа. «А размахнешься?». «Размахнусь». «А в грудь меня ударишь?». «Коли попросишь, так и вдарить могу». «А вот я тебя и прошу». Папа гирю ту поднял, да как ему по груди ухнет. Тут и ахнули все. А силач устоял. Засмеялся даже. «Настоящий», – говорит: «У вас в деревне кузнец». Папа нам потом объяснил, что у силача на груди горошина была нарисована – метка, в которую с любой силой можно бить. Если бы он в ту горошину не попал, зашиб бы мужика насмерть. - В сорок первом тебе восемь лет было, – сочувствую я маме. - В сорок первом папа недолго дома побыл, только с финской вернулся, тут и отечественная началась. - В первом призыве ушел, – почти прошептала бабушка. Сохранились пять пожелтевших писем с крепкими печатями: «проверено военной цензурой». В них нет пафосных пассажей: «За партию! За Сталина! За нашу социалистическую Родину!». С крестьянской вежливостью здоровается дед, перечисляя всех родных поименно, обращается к каждому на «вы». Интересуется урожаем, ценами на зерно, подсчитывает трудодни, советует: «Гармонь Михаил пусть купит, надо и погулять и повеселиться, если дольше война продлится, то и его возьмут, и неизвестно, что с ним будет». А вот супруге совет: «Вы, Вера, писали, что проводили праздник Михайловску хорошо, но и вам только надо, пока что можно, дак и праздновать, и пировать. При такой работе, да и не повеселиться?» Писал он в январе сорок четвертого. Будто и не было между ними трех с половиной лет разлуки, и расстояния длинною в войну. Так мирно входит он душой в семью свою и ладит жизнь. А вот письмо сорок второго года, здесь дед еще не оторван от семейного быта: «Теперь сообщаю вам в первую очередь о своем здоровье то, что все ничего. Скоро все заживет. Одна рана зажила, куда вышел осколок. Вход тоже скоро заживет. Идет дело к лучшему». Желтый лист разломан по изгибу, буквы рассыпались в прах. Полагаю, что далеким химическим карандашом здесь было вписано имя кого-то из близкой родни: «… возможно, у них носить нечего, нет обуви, и если ничего не купили, то пусть носит мои хромовые сапоги в сухую погоду, но без галош, а если сыро, то с галошами. А Галя, я думаю, что если ничего не купили из обуви, то все же как-нибудь старого починить, какие-нибудь старые ботинки. А сама, Вера, могут, в какую холодную погоду мои ботинки носить. И только у Миши никак нет обуви и то можно мои сапоги крытые носить. Я так предполагаю: буде что будет. Работайте в колхозе, и какая одежда есть носите». Тепло от писем. Мой теплый дед. Моя далекая правда. Ветхая бумага в пальцах моих. За окном ночь. В печи огонь. «Ваш муж, младший сержант Смирнов Григорий Петрович, уроженец Арбажского района Кировской области, деревни Ромашичи, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит при выполнении боевого задания 11 февраля 1944 года. Похоронен в деревне Синвернян Ленинградской области». На карте Ленинградской области, изданной в 1939 году нет деревни Синвернян, нет ее и на карте 1943 года – это выяснил мой однокашник Саша Сеплярский, коренной ленинградец. Но был 44 год, было 11 февраля. Когда не стало деда моего. Вот говорит он с желтого листочка старательным почерком в декабре 43-го, беспокоится о сыне: «…пока он растет, и видишь, как цветет, а потом будем жалеть и каяться. Мне сейчас интересно хоть одним глазом посмотреть на своих детей. Но могот, и совсем не придется повидать. Вы, Вера писали: где мы находимся? Дак, я и сам не знаю в каком месте. До этого не … /жирная печать цензуры/ … хвам /рассыпается бумага на изгибе/. Здесь ро… /буквы печати/… места неизвестные». Сука Гитлер. Очевидный урод. Не могу понять, как ему удалось одурманить такую массу народа, таких неглупых людей, как немцы? Что заставило их отозваться на амплитуду его голоса? От какой, открывшейся им тайны они так неистово плавили сталь, чертили чертежи, делали танки, строились в колонны, и шли убивать? 11 февраля 44 года убили моего деда. - Бабушка, а дед курил? - Нет, табаком они не баловались. Прикуриваю свою «Приму». - Ну, ведь грешили как-то? - В карты играли. Раз Григорий жеребенка проиграл. - А ты ему? - А что я? Он голова. - Бабушка, я заберу эти письма себе? - Куда же их еще? Забирай. За окном в нежном свете тихой лампы падают снежинки. - Спать пора,- говорит мама. - Вы стелитесь. Я еще посижу. И утекает синий дымок моей «Примы» в печной затвор, убирает мама со стола синий столбик сгущенки. Бабушка уходит за дощатую перегородку, так здесь обозначены комнаты. Скрипнула раскладушка. Докурил сигарету, зашел, к бабушке. Она седая, в белой рубашке с рукавами, под белым одеялом на раскладушке у печи. - Бабушка, тебе хорошо? - А как же? Тепло и чисто. И никаких претензий. Тепло и чисто. Здесь все в ладу с миром. А мир наполнен тихим светом, в котором хочется жить, пребывать, не суетно, не шумно. - Спокойной ночи, бабушка. - Покойной ночи, ты не майся, приляг, поспи, с дороги. Выхожу в проходную комнатку. Мама расстелила мне постель на железной кровати, сама погасила свет, присела на кухне у окна, смотрит на меня сквозь дверной проем. Окно за ее спиной роняет снежный свет на прибранный стол. - Так неужели не от обезьяны? – вдруг серьезно спрашивает мама. - Ты оглянись, разве все это может быть от нее? Мама смотрит на улицу, будто вдыхает душой густой снегопад и, вдруг, тихо произносит: - Неужто, бабка права и он есть? -Кто? -Бог? - Мам? - А? - А его может не быть? - Нас учили, что от обезьяны. Мы верили. И жили вот так. - Как? - Страшно. - Что страшно? - Оглянуться страшно, как жили. - Нормально вы жили. - Ты спи, я еще посижу, – говорит мама. Она смотрит в окно, я валюсь на кровать и слышу, как мама тихонько плачет. Я знаю о чем. Она призналась недавно, что слезы стали накатывать от боли о своих не рожденных детях, о моих братьях и сестрах, которых лишали жизни до их появления на свет. У меня теперь тоже есть не рожденные дети. И я не могу себе этого простить. Но, ведь я позволял своим женщинам делать это, не испытывая угрызений совести. Мы всерьез верили, что так можно и даже нужно для личной свободы, для «беспрепятственной реализации собственных личностей во благо возвышенных целей». Такой бред мы принимали в себе за здравомыслие. И вот, забрезжила возможность вырваться из этой безумной системы координат. Там в Москве закипает гласностью 1986 год. Выносит на пенистую поверхность щепки, бревна, плоты, утопленной большевиками правды. Мы цепляемся за них, плывем из тьмы. Правды много, она такая пестрая: от собачьего сердца Михаила Булгакова до обратной перспективы Павла Флоренского. О чем вчера запрещено было думать сегодня можно говорить и даже спорить. Раздухарились мои однокашники по институту. Утром, в умывальнике, голый по пояс Бражис – латыш, в полный голос развивает теорию о том, что они-де в ближайшие годы оторвутся от России и станут нам во благо проводниками европейской культуры. - Ну, ты Сусанин! - возражаю ему: «Не хиловатый проводник из вас получится? Сечение размером в один Райнис, под какую культуру приспособлено? У нас, ыть, потребности Толстовско – Достоевские. Да и от нас есть, что в Европу нести. Боюсь, размер у вас для проводников мелковат. Не годитесь вы нам. Придется другую работенку подыскивать». Бражис не обижается. Он уверен в том, что он европеец и с нами ему не по пути. А мне он, почему-то кажется самим себя сочинившим. Сам себя придумал, сам себя изображает. И ничего в нем ничего не весит, ни мысли, ни тело. И слова звенят пустотой. И мечты он излагает какие-то забавные. Ну, допустим, отделятся они от нас, что в результате? Виноватого потеряют! Придется в зеркало глядеть. Вот тут-то им не позавидуешь, когда на них из зеркала глянет реальный виноватый в их исторических бедах. Мы-то, при всех наших сложностях, опираемся на русское дворянство, одарившее мир литературой, философией, музыкой, наукой. Кто на вас из вашего зеркала выглянет? Существо с лакейскими бакенбардами и в ливрее? Нож научился в правой руке держать, вилку – в левой? Кофе заваривать? Кильку в раскаленном масле жарить? Да и флаг вам в руки! Воняйте вы своими шпротами по всем берегам Балтийской лужи. В этот снежный вечер мне их становится, почему-то, жалко. Жалко за то, что в азарте тридцать девятого года большевики наступили на них кирзовым сапогом. Да и за что жалеть? Наступили и поделом. Ведь это вы, милые, помогли большевичкам утвердиться на нашей земле. Одни латышские стрелки чего стоят?! Вот и получили их «взад», как говорят в народе. Это не вам, нам теперь почти вековую большевистскую коросту с тела сдирать. Вон, мама моя жизнь прожила и не знала, что Бог есть. С кого теперь за такую искаженную жизнь спрашивать? Не с того ли беса, что лежит в образе человеческом, в подвале под кремлевской стеной. В самом сердце страны затаился. Какие сказки он в детстве слушал, какие колыбельные пели ему? Кто пел? С мамашей его все понятно. Там Бланки. У них всегда порядок с породой. А вот с папой Ильей Николаевичем – туман. Кто четвертинку русской крови внес в будущего вождя: бабушка или дедушка? Кто был не калмык до сих пор неясно. Ясно, что ни русские, ни калмыцкие песни над его колыбелью не звучали. Не слышал младенец ничего такого, что способно было укротить его природную ненависть ко всему духовному? Подвернись ему другая страна: Франция, Германия, он и там бы затрепал все шиворот навыворот. И не мы бы разгребали сейчас беды свои. А так нам выпало. Разгребем ли? И дадут ли разгрести? Пока только чирикать разрешили. Книжки умные читаем теперь не под одеялом, и не под уголовную ответственность. Издают пока плохо, но, слава Богу, не карают. Скоро на полках открыто появятся Солженицын, Набоков, Бердяев, кто только не появится. Но читать их сильно не станут. Кто хотел, тот давно прочел «под одеялом» в «самиздатовских» экземплярах, со слепым машинописным текстом. Скоро, скоро побегут по московским улицам «Мерседесы», перестанут выдавать зарплату, и не затаенную от народа классику, ринутся читать люди, нет! Люди захотят делать деньги… А пока за окнами 1986 год. Приятно засыпать под вьюгу. И сходит в мою дремоту чудесная девушка Карина. Присаживается на краешек кровати. - Привет. - Привет, ты откуда здесь? - Ты позвал, я пришла. - Ну, да, позвал, кажется. Просто подумал о тебе. - А что подумал? - О тебе подумал просто. Зачем ты тогда осталась у меня? - Осталась, а что? - У тебя жених… - Интересно было. - Ты красивая. Скажи, ты смогла бы любить такой дом? - Честно? Нет. - Тебе не нравится, как пахнут стены? Деревом. А какой снег за окном! Карина гладит меня по щеке своей теплой ладонью: «Ты хороший и у тебя все будет хорошо. Мне здесь холодно и скучно. Человеку не может быть хорошо там, где ему скучно». - Почему тебе скучно? - Мне кажется, что здесь все далеко, до всего далеко и от этого страшно. У нас море и все близко. - Ну, ладно лети к своему морю. Я приеду к тебе в гости. Хочешь? - Хочу. - А через много лет ты меня узнаешь? - Узнаю. Потому что буду тебе рада. Всегда. Карина тихо уходит в метель, остается на моей щеке тепло от ее ладони. Ты все видишь дед. Ты все знаешь. Да, я дошел до Германии. По-своему, как смог. И мне там будут рады. Я хотел позвать ее сюда, познакомить с мамой. Я представлял, как она будет щупать своими длинными дикими ногами наши ненадежные ступени, и виновато улыбаться, и пугливо подергивать плечами, потому что здесь ей всегда будет холодно, даже летом. Легкий озноб страха оттого, что здесь все далеко, не покинет ее никогда и потому она не сможет здесь жить. Действительно, как можно жить в самом центре материка, от всего далеко и не бояться собственной отдаленности? У нее море, по морю бегут корабли и все в мире становится близко. А по нашей снежной пустыне не ходят даже верблюды. Но в этой безнадежной обреченности я испытываю удовольствие быть собой. Мазохизм какой-то! Утром будит меня солнечный свет. Он наполняет комнату, исходя отовсюду: С неба, с соседней крыши, с заснеженных веток рябины под окном. Голая лампа уличного фонаря погасла и стала беспомощной. Выхожу на крыльцо, умываюсь снежным пухом, вдыхаю чистоту морозного воздуха. В невероятной тишине расстилается снег до горизонта во все стороны света. Спасибо, дед, за то, что отстоял мне эту землю. Каждый год приходит время, когда небо щедро роняет на нее невероятные запасы чистейшей воды нежными кристаллами снежинок. Мы ступаем по поверхности этого океана. Мы привыкли, мы даже не думаем о том, что подобное доступно только богам. Мы настолько очевидно богаты, что не способны замечать этого. Беспечные, беззаботные, пьяные топчем бесценную пресную воду и тупо гордимся тем, что выворачиваем на продажу запасы из недр земных. А на кухне пахнет блинами, мама разливает в чашки молоко. Приятно макнуть свежий блин в розетку со сметаной, с теплым топленым маслом, с вареньем. Бабушка вновь достает из буфета сгущенку, протягивает мне и тихо просит: - Открой. Помянем дедушку. Я вскрываю синюю банку ножом, выливаю в блюдце ее густое нежное содержимое. Каждый из нас обмакнул в него свой блин. Жуем. Ну, помянули! Завтра поезд на запад. И круглые сутки за окнами белым-бело, пока не заскользит наш скоростной экспресс вдоль зимней слякоти перронов Ярославского вокзала. Москва, как символ государства, конечно, хрень. В какую эпоху ни глянь: крадут Россию. Который век крадут! А все никак не выкрадут. Духовность здесь давно уже – антураж, питающий «ботву». За такими разговорами прямо с вокзала поеду я к другу моему, коренному москвичу Саше Трынкову. Мы вместе служили срочную на Балтийском флоте. Теперь он профессиональный музыкант играет на классической гитаре. Черноволосый, черноглазый, черноусый, он мог стать приманкой для нынешних скинхедов. Он, человек, у которого от одного слова Россия накатывают слезы на глаза. А между разговорами, мы будем пить водку, и слушать Сашину гитару, такую же честную и чистую, как он.
|
|
Очередь. Ленина я мог увидеть в 1965 году. Мы с отцом приехали в Москву. Замысел отца был грандиозен: показать мне Ленина и Пеле. Сборную Бразилии пригласили испытать СССР на прочность перед чемпионатом мира. Послезавтра футбол. Завтра Мавзолей. Остановились у родственников. Родственники были близкие, но не теплые. Москвичи. Их до нас успели достать визитами и проездами. На все про все у нас было два дня. К Ленину отец поехал заранее, даже не разбудив меня, хотел удивить билетами. Оказалось, что билеты в Мавзолей не продают. На следующий день мы оба проснулись рано. Куда? – спросил таксист. В Мавзолей, - констатировал отец. Не торгуясь, водитель, включил счетчик, «Волга» гордо шла по Москве. Асфальт стелился пол колеса, шурша водой от поливочных машин. Дыша прохладой, мы, счастливые, успели примкнуть к живой очереди. Вдоль кремлевской стены люди вдохновенно ждали встречи, вдруг перед вечным огнем кто-то невидимый, но осязаемый вежливо сказал: «Извините». Его не был, но он был. Я позже встречал их в самых неожиданных ситуациях. Он есть, но его нет, у него есть голос, у него есть воля, он корректирует толпу, рассекает, выдворяет. Вот такие появились среди нас и, как-то быстро объяснили, что все мы опоздали. Нас получился целый хвост. Хвост роптал. - Как вам не стыдно? Мы в Мавзолей! Безликим не бывает стыдно. - Пошли отсюда! – брезгливо сказал отец, и мы вышли из хвоста. Отцу тогда было 33 года. И я увидел, что кто-то здесь не должен касаться его кожи. Он куда-то спешил из этого пространства, крепко держа меня за руку. «Сталина на них не хватает!» – поддержал я его. «Ты что?!» – зашипел на меня отец. «Ты сам так говоришь»,- обиделся я за неудачную попытку показаться умным. «Не важно, что говоришь, важно, где говоришь», – оглядываясь, прошептал отец. Я чувствовал себя уходящим партизаном. - А мы куда? -В Лужники – сказал отец. Лужники звучало, как что-то островное, скрытое зеленью ото всех. Но вместо Лужников мы снова поехали на проспект Ленина, там жили наши родственники на улице Крупской. Там покормили нас обедом. И я убежал не куда-нибудь, а в самую третью комнату, где стоял, выдвигающийся от стены диван, не смея выдвинуть его, я прилег отдохнуть. Отец присел рядом. Он дремал недолго. По крайней мере, мне так показалось. «Поехали» – вдруг сказал он. «Куда?» «В Лужники». Самые лучшие Лужники были диваном подо мной. «А что в Лужниках?» «Там Пеле». Это было второе магическое слово нашего путешествия. И я встал. Мы вышли из вагона метро на платформу, где лицом к нам стояли какие-то люди, мешали нам идти и о чем-то спрашивали. «Что им надо?» – спросил я отца. Он вытягивал меня за руку к эскалатору и уже по-бакински, раздраженно говорил: «Па-нимаешь? Идиоты-да!». Мы выбрались на поверхность. Лужники оказались не лесом, идиотов здесь было еще больше. Они спрашивали: нет ли у нас лишнего билетика? - «Если у нас нет билетика, давай станем, как они», – предложил я отцу. - «Подожди, сейчас станем». Как настоящий бакинец он просто поднял над головой десятирублевую купюру. Билет на стадион стоил один рубль. Все, кто шли на стадион, проходили мимо нас. Вдруг рядом зазвучал абсолютный идиот. «Возьмите, возьмите за билет!» – кричал он, растягивая над головой балониевый плащ! Даже я знал: эта вещь стоит сорок пять рублей! «Пол зарплаты за говно!» – говорил отец, когда у нас собирались гости. И вот за ползарплаты моего отца, как за настоящее говно никто не давал билета. «Пошли» – сказал отец. И мы пошли к метро. «А что случилось?» «Ошибся-да», – ответил он, махая перед моим носом красным червонцем, наверное, надеялся, что кто-то еще заметит его цену. На купюре был изображен Ленин. «Он нам опять не помог?»- спросил я. «Кто?» – удивился отец. «Он»- ткнул я пальцем в купюру, – «Ленин». «Замолчи!» – закричал на меня отец, – «Как ты вообще жить будешь?». Я не знал, как я жить буду. Тем более, что Пеле оказался негром. Это было видно на черно-белом экране телевизора наших родственников. Телевизор стоял напротив дивана, который раздвигался от стены – это были мои долгожданные Лужники. Негр Пеле забил нам красивый гол, другие бразильцы забили еще два. К Ленину в мавзолей я попал, уже став взрослым человеком. Случилось это действительно по блату.
И снова была Москва.
Я перешел на пятый курс Литературного института Союза писателей СССР. Четыре года счастливой учебы меня мрачно сопровождал Владимир Васильевич Мальков, тот самый «В.В. Мальков», автор и соавтор учебников по истории СССР для старших классов советской школы. Благодаря ему, я точно знал в ночь на какое марта царь отрекся от престола, и какого апреля Ленин влез на броневик. Гордо изложив свои знания на вступительном экзамене, я был уверен, что больше никогда не прикоснусь к этим мучительным учебникам, от которых разило идеологией, но не наукой. Так и случилось, эти учебники ушли из моей жизни навсегда, но сам «В.В. Мальков» вошел в нее живьем в образе заведующего кафедрой марксизма ленинизма, и главы парторганизации Литературного института. Тем летом его заслали из МГУ повышать идеологию в ненадежном ВУЗе. - Догнал! – шутили однокурсники. Во плоти он был худощавый, невесомый, светло-серый от одежды, до кожи лица. Голос его командно скрипел. - Та-ак! Вы, почему здесь курите?- вопрос пронзает молодого длинноволосого человека. Ответ звучит раздражающе спокойно: - Так вот, окошко, открыто. - Я спрашиваю: почему в коридоре курите? - А у нас на кафедре не курят. - Вы что, преподаватель? - Простите, так вышло. - А почему волосы длинные? - Я завтра обязательно постригусь. - Вот-вот, постригитесь, и джинсы смените, а-то они у вас какие-то затрепанные для преподавателя, – пригвоздил Мальков и тут же поперхнулся. Молодой человек расстегивал молнию на ширинке. - Господин парторг, будьте так любезны, – говорил он подчеркнуто дружелюбно: Вы трусы мои, пожалуйста, оцените, а то не дай Бог, что-то недозволенное ношу. Малькова с первых дней прозвали «Фюрер», но реального вреда он никому не приносил. При всей его агрессивной строгости он рубил саблей воздух. Воздух свободы, наполнявший дом, в котором родился сам Александр Герцен. В наше время там читали лекции Константин Кедров, Михаил Еремин, Мариэтта Чудакова, Владимир Куницын, Владимир Смирнов… А еще у нас были мастера, живые классики советской литературы. Лично я учился у Виктора Сергеевича Розова. Если мастер считал, что ты талантлив, никто не смел тебя «обидеть». Совершено спокойно можно было переходить с курса на курс, не посещая лекций или, наоборот, просиживать по два года на каждом курсе, чтобы подольше пожить в Москве. В общежитии селили нас не более двух в комнате, а дипломникам вообще полагалось жить по одному. Вот таким воздухом дышал вместе с нами В.В. Мальков и постепенно оттаивал, по крайней мере, так казалось. На старших курсах он читал нам историю права. И вот, однажды, сердясь на невнимательных слушателей, он как-то содержательно замолчал и ни обращаясь, ни к кому тихо, но уверенно произнес: «Вот вы в свои двадцать с лишним лет ищете себя в литературе. А я в двадцать два начал служить в военной прокуратуре, и за три года подвел под высшую меру 12 сталинских следователей!». Последние слова он произнес резко и безапелляционно, как приговор. Наступила тишина. И в этой тишине стало ясно, что у «В.В. Малькова» своя серьезная история жизни, где были, возможно, долги, выросшие в один конкретный долг, и он его честно исполнил. Перед нами стоял человек, совершивший поступок. Лично я показался себе в тот момент каким-то неприлично маленьким со всеми своими свободами. Которые все равно оставались, любимы, желанны и вели меня за собой и привели в город Люберцы, где работал Серега.
Серега.
Он работал главным режиссером Народного театра в городском Дворце культуры. Мой однокашник Дик, ироничный немец из Саратова помогал ему ставить спектакли с народом и для народа. Толи в шутку, толи всерьез Дик предложил Сереге принять меня на работу. Серега принял, одарив должностью заведующего постановочной частью, и доверив производство декораций, при условии, что я «буду играть роли по необходимости». За декорации платили неплохие для студента деньги, а за роли обещали славу и любовь. Со временем все заладилось по уму, и трудились мы дружно во благо народного искусства. И вот, в день своего тридцатилетия, собрав коллектив, Серега сам произнес первый тост: - В восемнадцать лет я начал строить дом. Я его построил. Я полюбил самую красивую девушку на нашем курсе. Она моя жена. Постигая театр, я понял, что должен поставить три пьесы, и я их поставил: «Эшелон», «Дракон», «Утиная охота». Теперь каждый выпивает до дна за меня, а дальше все пьют, за что хотят и сколько хотят. Так и понеслось. Но, в разгар размашистого веселья Серега подсел за наш столик и очень трезво сказал: - Мужики, вы какие-то другие. Вот, вроде бы, как все, но все равно, Другие! Откуда такие берутся? Таких, в литинституте делают? - Сначала откуда-то берутся, а институты – это уже потом…, – попытался отшутиться я. А Дик, ехидно хихикнул: - Хочешь, мы тебя туда поступим? Серега протянул нам обоим свою уверенную ладонь и сказал: - ДА! Случилось все быстро. Серега за две недели сочинил пьесу и сдал ее в приемную комиссию на творческий конкурс. Я, на правах старшекурсника, сотворил рецензию. Виктор Сергеевич Розов, прочитав рецензию, поверил мне на слово и оценил Серегину пьесу в пять баллов. Так был пройден творческий конкурс. Но впереди ожидало самое страшное испытание: экзамен по литературе письменно. К счастью, на этот экзамен была назначена ассистентом Маринка Карпова, аспирантка и просто красавица. Она вынесла Серегино сочинение в женский туалет и исправила там все сто тридцать три ошибки. Ну, а далее Серега расправил крылья. Литературу устно сдал одним взмахом, околдовав экзаменаторов режиссерскими интерпретациями сюжетов и характеров. Историю – уверенно. Иностранный – твердо. А на заключительном собеседовании с преподавательской элитой ВУЗа так обаял всех жизнеутверждающей позицией, так уверенно протянул всем свою, внушающую доверие ладонь, что первым схватился за нее сам Юлиуш Эдлис и потребовал отдать Серегу в его семинар. «Он поступил» – телеграфировали мне. Это означало, что первого сентября прямо с вокзала я должен был успеть в институт. Поздравить Серегу с получением студенческого билета и вместе с подельниками по сотворенному поступлению отправиться к нему домой в Удельную. Мы очень любили бывать у Сереги. Просторный двухэтажный дом, вокруг сад с яблонями, под тремя вековыми соснами стол, мангал, душ, всегда обилие закусок, приготовленных его мамой, свежие овощи прямо с грядки, в пятнадцати минутах ходьбы через лесок Малаховское озеро. Густой запах вечерней листвы Подмосковья. Но на моем пути стоял вождь.
Вождь.
Первого сентября я подходил к литинституту. Людей загружали в два новеньких «Икаруса». «Мы здесь!» – Серегин голос вился над машущей из окошка рукой. «Вы куда?!» – выкрикнул я из гущи общего гвалта. «Давай сюда или прямо в Удельную!». Прямо в Удельную, без Сереги, на электричке трястись не хотелось, я решил «сюда» и с двумя большими сумками втиснулся в автобус. Они все были здесь: Серега, Дик, Маринка. Я протиснулся к ним. После утомительных дней и ночей в летнем поезде, споткнулся и, ткнулся головой в Маринкину грудь. Едва не задохнувшись, выдохнул: «Извини». Отвалился, свалился на колено Дику, прошептал: « Маринка, я тебя люблю». «Поздно»- хихикнул в бородку Дик, и получил от Маринки ласковый подзатыльник. «Икарус» начал восхождение по Большой Бронной к улице Горького. Заваливаясь, на спину с Дикова колена в надежные руки Сереги, я спросил у потолка: «Куда везут?». «К вождю», – с неопределенной торжественностью в голосе ответил Серега и крепкой рукой восстановил меня к равновесию. Мы плыли тихо вниз по ул. Горького. Я сел на свои дорожные сумки в проходе между кресел, Маринка поглаживала меня по голове. На нашу дружбу с тихой завистью смотрели глаза новых первокурсников очного и заочного отделений Литературного института. «Куда такую толпу везут?» – ничего не понимая, спросил я. «В Мавзолей», – вздохнул Дик: «Первокурсников причащать едем». «Какой Мавзолей? Через час полдень!». «Это для всех полдень»,- сочувственно произнес Дик и гордо добавил: «А у Малькова там блат!». Мне так захотелось невероятного: чтобы в эту минуту, оказался рядом со мной в этом автобусе, отец. И пока я всерьез переживал невозможность такого свершения, Дик поведал мне о том, что отныне не только первокурсников будут причащать в Мавзолее, но и пятикурсников в общежитии селить строго по двое. - А это вдруг с чего? - Ректорат решил, чтобы из окон реже прыгали. - Так ведь чаще будут. - А в этом надо убедиться. «Икарусы» остановились у подножия красной площади, зашипели двери, вещи велено было не брать с собой, народ высыпал на улицу, перед нами расступились турникеты, кто-то невидимый приостановил движение самой великой очереди в мире и мы стали вливаться в нее сбоку. «Как не стыдно?! В мавзолей по блату!», – роптали люди за нашими спинами. Гордый Владимир Васильевич уверенно пояснял: «Спокойно, товарищи, спокойно. У нас все запланировано. Эта группа прибыла ко времени и по плану». «У вас все ко времени и по блату», – отвечали ему из честной очереди. Но, вновь, появились безликие и, как-то негромко и быстро навели тишину, соответствующую торжественности момента. И вдруг, среди наших, я увидел Бируту Зуяне. Эта тихая, добрая латышка училась в ГИТИСе, а еще успевала посещать наш творческий семинар в литинституте. - Привет, Бирута! Откуда ты здесь? - Я поступила к вам. Буду изучать драму. - Поздравляю. Так ты же ее и так изучаешь. -Драма с позиции режиссера – это одна система, а с позиции автора – совсем другая. - Рад за тебя. Будем чаще встречаться. Маринка взяла меня под левый локоть, чтобы отвлечь от Бируты, и только успел я повернуть к ней голову, как рядом с нами возник Он. Его голос не допускал возражений. - Девушка, пуговку застегните. - Что? – не поняла Маринка. Его уверенный указательный палец мелькнул над верхней пуговкой Маринкиной кофты. - Пуговку застегните. Пока Маринка молча застегивала верхнюю пуговку, а я лишь на мгновенье отвлекся ее красивой грудью, Он исчез. Его нигде не было. Мимо Исторического музея мы уже прошли, до ГУМА расстояние в ширину Красной площади, между нами и Кремлевской стеной плотная очередь, но его в ней не было. И тут я понял: они среди нас! Они притворяются нами, но в нужный момент преобразуются в себя, раздвигают турникеты, останавливают очередь, успокаивают недовольных, а здесь в непосредственном приближении к вратам, выправляют последние штрихи нашего внешнего вида. «Ни фига себе профессия!», – подумал я. Они нас не только видят, они нас еще и слышат. Мне стало жутковато, и в эту минуту меня осенил коварный план. Нет, он не касался нашего присутствия на Красной площади, план был перспективный. Но возник он, как протест этим всевластным невидимкам. Я знал, что Бирута вскладчину с подругами снимает в Москве квартиру. - Бирута, Бирута – зашептал я, склоняясь над ее ухом: Ты же не будешь селиться в общежитии? - Нет, нет, мне это не надо. - Тогда я запишу к себе в соседи по комнате первокурсника Бирута Зуяне. - Но я женщина? – весело возразила Бирута. - А я им не скажу, что ты женщина. Когда меня в студкоме спросят: кого к тебе подселить? Я им отвечу: Бирута Зуяне. - Нам за это ничего не будет? – - Так это же я тебя подселю. Буду жить один, а ты со своими подружками там, где живешь. - Ну, подселяй,- согласилась Бирута. - Я буду за тебя вносить твою долю квартплаты. - О! Этого не надо! – строго сказала тихая Бирута: Давай лучше останемся друзья. Мы приближались к вратам Мавзолея. Я даже успел подумать о том, что вот, наверное, это наполненное мистической энергетикой место позволило мне в одно мгновенье угадать: где и как обитают таинственные поводыри, и тут же найти выход из безрадостной перспективы подселения соседа. Нас повернули влево, темным коридором мы ступали вниз по почти невидимым ступеням. В глубине пространство наполнилось тяжелым желтым светом. Вождь лежал в стеклянном саркофаге в классической позе покойника. - Не задерживайтесь. Не задерживайтесь,- тихо подсказывали нам от темной стены. И вот ступени вверх, к дневному свету, на свежий воздух. Мы вышли к кремлевской стене, нам показывали какие-то могилы под аккуратненькими елками, подводили к мраморным доскам с именами и датами, но я ничего не воспринимал. Во мне в полную силу зазвучали простые вопросы, на которые я не находил ответа: зачем он там? Почему его могила открыта? Для чего через нее прогоняют всю страну? Мы молча встретились глазами с Бирутой. - Жуть,- тихо выдохнула она. Владимир Васильевич гордо выхаживал среди первокурсников. По большому счету я понимал, что сегодня мне перепала солидная подачка с его барского плеча, от его возможностей, связей, от его судьбы, сложившейся в системе координат этой эпохи. Но отсюда хотелось скорее в Подмосковье и мы, в конце концов, оказались там. Под тремя соснами щедрый Серега большим половником из огромной чаши, отливающей серебром, разливал в бокалы домашнее вино. Дик наполнял стопки водкой. Над обильным столом пахло мангалом и шашлыком. - Ну, что? – улыбнулся Серега: За мой второй студенческий билет! - Тем более, что он почти партийный, – съязвил Дик. - Да, ладно вам! – отмахнулся Серега: Зато Ленина повидали. Мы выпили за билет. Закусив водку шляпкой гриба-боровика, зажаренной целиком по секретному Серегиному рецепту, я сказал: - Ну и денек сегодня! С поезда в Мавзолей, да еще и сделку заключил на Красной площади, почти у гроба вождя. - Ну, чтобы все у всех сбылось! – подвел итог Серега, поднимая перед собой вторую стопку. Так оно и было. Серега стал учиться на заочном отделении литинститута и продолжал ставить свои яркие спектакли с народом и для народа. Я прописал с собой в комнате общежития мифического первокурсника Бирута Зуяне и в атмосфере полного одиночества сочинял свою дипломную пьесу. Но наступила весна, и ко мне в комнату кто-то постучал неожиданно строго. - Входите, открыто! – вдохновенно пригласил я. Порог переступил мой однокурсник, председатель студенческого комитета, коммунист, но в целом очень порядочный парень адыгеец Ширхан. Он был одет в костюм, при галстуке, его всегда аккуратные усы, казалось, немножечко дыбились. - Володя, ты меня обманывал! – подавляя обиду в голосе, жестко произнес он. - Ну вот, и тебя тоже… – попытался отшутиться я. - Зуяне – это женщина, – наступал Ширхан. - Это факт. Она женщина. Красивая. - Меня к ректору вызывали. Теперь вызывают тебя. Все может очень плохо кончиться. И я предстал перед ректором. Владимир Константинович Егоров пришел к нам из самых верхов комсомола. Он был молод, интеллигентен и, как-то, по-своему демократичен. - Вызывали, Владимир Константинович? - Да, да, проходите. Он не предложил мне сесть, но сам поднялся с кресла. - Так! Ну что? Говорят, вы с женщиной живете? - Правду говорят. Так это же естественно. - Естественно, когда оно естественно, а здесь речь идет об общежитии. - Владимир Константинович, если я сейчас дам вам клятвенное обещание, что с завтрашнего дня, начну жить с мужчиной, это будет нормально? - Хороший юмор. Но в институте организовались некоторые личности, которые требуют не допускать вас до защиты диплома. - Честное слово, я в своем поступке никакого криминала не вижу. Обычный прикол. Мне кажется, его бы даже Мальков оценил. - Владимир Васильевич как раз на вашей стороне. - Вот видите и партком на моей стороне, – цеплялся я за последнюю соломинку. - Ладно, идите, считайте, что я ваш юмор оценил.
Отец.
До защиты диплома меня допустили. Отец приехал в Москву. Я первый из наших обозримых родственников получал высшее образование. В аудитории литинститута отец сидел за последней партой и гордо слушал больших людей, которые хвалили его сына. - А почему она сказала, что ты честный человек?- спросил отец, когда мы вышли на улицу, он имел в виду выступление Инны Вишневской. - Она говорила о моем творчестве. - Хорошо говорила – согласился отец: Диплом, когда дадут? - Через месяц. Сегодня мы его защитили. - А сейчас куда? - Водку пить. Слушай, а сам-то ты Ленина видел? - Давно. Я в подмосковном санатории был, нас туда на экскурсию свозили. - Меня тоже свозили по блату. - Понимаю. Ты сейчас сам большой человек, – согласился отец: Ну и как он там? - Хреново. Сына я туда не поведу. - Вот так не надо. Ты должен знать: лес рубят, щепки летят. Так было всегда. - А ты сыроежку помнишь? - Какую еще сыроежку? - Поехали, отец, водка стынет.
Сыроежка.
В то лето 1965 года, когда мы пытались повидать Ленин и Пеле, на утро третьего дня родственники пригласили нас на дачу. Они уехали очень рано. Мы с отцом догоняли их на электричке. От станции путь лежал через лесок. Мы шли по хорошо протоптанной тропинке. - Смотри! – сказал отец. - Куда? – спросил я. - Гриб. У тропинки стоял гриб с бледной шляпкой и белой ножкой. - Съедобный, – с долей сомнения сказал отец. - Отнесем. Пусть приготовят. - Нет,- сказал отец: Хорошо стоит. - Хорошо,- сказал я. - Сыроежка,- сказал прохожий, за нашими спинами. - Сыроежка, – передал я отцу информацию, когда прохожий удалился. - Вижу, – сказал отец. Мы молча смотрели на сыроежку. Солнечный луч, проскочив сквозь листву, погладил ее шляпку. - Не надо трогать, – сказал отец. - Не надо, – подтвердил я. И мы пошли к родственникам. Из того далекого 1965 года, когда нам не удалось увидеть Ленина и Пеле, так и осталась в памяти эта простая теплая сыроежка.
|
|
Стихи начала писать в школе. Первая публикация состоялась в газете «Пионерская правда», но осторожная критика в редакционном письме надолго остудила мое рвение. Если потом и писала, то – в стол. Неожиданно для себя стала дипломантом конкурса «Песни о Казани-99». С удивлением обнаружила, что в родном городе есть литературные объединения. Например, «Галерею» при музее художника Константина Васильева вел его друг, председатель Казанской организации Союза российских писателей Виль Мустафин. Благодарна судьбе за это знакомство – Виль Салахович был прекрасным учителем и незаурядным человеком. В «окололитературных кругах» тех лет было мало оптимизма:
«А мы – НИКТО, в своем – НИГДЕ пройти мечтали по воде. Писали, пряча трепет строк от глаз в рождественский чулок. И падали метеориты не найдены и не открыты…»
Первый самиздатовский сборник лирики появился в 1998 году – «Впадает в ночь родившийся ручей», в 2003-м второй – «Кони шальные». В издательстве «Отечество» вышла документальная повесть «Здание из красного кирпича», а также сборники стихов «Я с куполами говорю на Вы» (2006) и «Фиолетовых яблок паденье» (2008). Последнее стихотворение, давшее название сборнику, посвящено Вилю Мустафину:
Фиолетовых яблок паденье на черную землю Лунный свет маскирует умело седым серебром. Звук удара – глухой, потому я его не приемлю, Сок не брызжет из ран, рассеченных оконным ребром. Я по белым изгибам тропинок крадусь осторожно И вскрываю печати, чтоб тайну чужую узнать. Ни в отчетливом сне, ни в бредовом дыму невозможно Догадаться: кому предназначено яблок обилье собрать.
Тишины на Земле не бывает, – ночная пичуга Голоса подает и пытается тьму отогнать. «Почему не светает?- спрошу я губами испуга, - Где же синь незабудок, что давеча сеяла мать? Где тот ласковый дар, что росою даруется свыше Каждой твари, личинке, травинке-былинке, листку? … Слава Богу! – Вот дождь пробежался по толевой крыше, Я жива!… Так пойду поклонюсь голубому цветку.
Печаталась также в коллективных сборниках «Галерея» (2006) и «Белая ворона» (2007). Последние публикации прозы: журнал «Идель» № 10’2009, газеты «Казанские ведомости» №№ 78/79, 98/99’2009 и «Республика Татарстан» (№ 4 за 12.01 2010). Люблю поэзию шестидесятников, особенно А.Вознесенского, Б.Ахмадуллину и казанских поэтов – Н. Беляева, Р. Кутуя, В. Мустафина, С. Малышева, Р. Кожевниковой. Сбылась моя мечта – услышать и увидеть Беллу Ахмадуллину – на «Аксенов-фесте» в октябре 2007 года. Так родились строчки:
Ахмадуллиной Б.А. Она читала, темперамент строк Срывался голосом, стучал в висок. Глаза светились праздничным разрядом, И тихо искры опускались рядом. Кровь проявила на щеках румянец, И он играл, и отливался глянец На лбу в прозрачных каплях влаги, И орошал в ее руках бумаги. Она читала, замер зал внимая, И под гипнозом публика немая Ей сердце мячиком послала к сцене, Где школьником на длинной перемене Самозабвенно, из конца в конец, Сновал ворота защищая чтец…»
НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Домой Выпускникам химфака КГУ 1.
В вечернем воздухе духи цветущих лип, Снимают фонари-флаконы клип : Там мостовые принимают летний душ, И сизари пьют воду теплых луж.
К поребрику на тротуарах пыль прибита, Играет музыка и дверь кафе открыта. Гарь шашлыков насытить обещает Голодных, их под крышу зазывает.
Вот зданье круглое, что на углу живет С открытым ртом – его прозвали «бегемот». Бульвар за портиком, где лавочки «в решетку» Студенты бойко окрестили «сковородкой».
Слышны куранты. Ностальгия. Сколько лет Мы врозь с тобою университет?
2.
Пришли не все, нас – шестеро, стоим. «Белохалатники» с прическами седыми. « Не изменились. Нам видней,» – твердим,- «Хотя понятно, что не молодые.»
«Куда теперь? Давайте, как тогда – Сад ленинский, кафе, нехитрая еда.» В вечернем воздухе деревьев аромат, В пробирках водка, – химики «гудят».
Прощались долго, а ученый в кресле- Смотрел поверх очков. На этом месте Мы обнаружили – в компании седьмой. Пробирку полную оставили. Домой!
30.06.07- 35 лет спустя
* * * Вилю Мустафину
Сентябрь желтым красил дерева, Сигары-стружки с высоты бросая. И провожала листопад трава, В последний путь, от холода спасая. Мал век людской – живи до той поры, Пока не станешь цифрою реестра, Усталым путником нагой коры, Плывущим под мелодию оркестра. Был ясный день. На кладбище тепло Отпетому. Потоки солнце лило. Кружили пчелы. От венков – белым-бело, И рисовали облака могилы. А тот, который сверху наблюдал За действом, что намечено рукою, Не мог не знать и знал, что больно нам, И утешал и посылал покоя. Здесь насекомые и птицы и цветы Все жили, радуясь и повинуясь воле, Как будто мир, куда уходишь ты, Всего - командировка и не боле.
18.09.09
* * *
Свет самых отдаленных звезд Идет до нас миллионы верст. Длиннее путь, чем в жизни лет, Звезды уж нет, но льется свет.
Теперь и он от нас далек, учитель наш и наш пророк; печальный рыцарь защищал язык от самых скверных жал. И то, как сердцем он стерег словесность – нам теперь урок. И будет враг, кто «неплохи и только» про его стихи сказать посмеет, судьи где? Пусть отражается в воде что вечно – вот ответ: звезды уж нет, но льется свет.
14.12.09
* * *
Коварен вирус, всякий – жертва гриппа, Ртуть чистит минус за окном до скрипа. Хандра сковала мысли и движенья, Слов стало мало строить предложенья. Пустеет лист, с него сбегают строчки, Лень держит вист, качаясь на шнурочке.
Я закипаю чайником на плитке, Храню тепло под грелкой, как улитка. И кисну в блюде, поднимаюсь тестом, Сползаю, шлепаюсь на доску мягким местом. Формуюсь, выпекаюсь в жаркой печке, И украшаюсь фруктами и свечкой.
Темно и сыро, давит тяжесть груза. Неужто грипп добрался и до музы?
15.12.09
На дне оврага
Случилось это в те далекие гагаринские семидесятые годы. Компания по переписи населения должна была стартовать через три дня. Телефонограмма секретаря Советского райкома комсомола с пометкой «Срочно» уже лежала на столе директора Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова. Готовился приказ. Я попала в список двадцати сотрудников, откомандированных для успешного завершения мероприятия. -Надеюсь, – сказал начальник отдела кадров собравшимся, – вы с честью справитесь с поставленной задачей, товарищи. Особо отличившихся ждет премия. На следующий день нам выдали папки с учетными бланками, распределили участки и проинструктировали каждого работника персонально. В течение двух недель мы должны были обойти дома, общежития, учебные заведения и организации на своей территории и сверить имеющиеся данные о прописанных жильцах с фактически проживающими. Заполненные бланки сдавались в штаб по переписи населения. На моем участке было пять Вузов : КАИ, КХТИ, Сельхозинститут, здания педагогического и медицинского институтов. Граница учетной территории проходила по улицам Комлева ( Муштари), Вишневского, Ершова и Карла Маркса. Поначалу работа показалась мне скучной. Весь день открывать двери домов и общежитий, возиться с бумагами, объяснять жильцам необходимость компании, отвечать на вопросы. Вечерами я торопилась на занятия в Университет и только в половине десятого переступала порог дома. Жили мы в то время в коммунальной квартире аварийной пятиэтажки в центре Адмиралтейской слободы. На кухне из крана лилась холодная вода, отопление было печным. Готовили обед хозяйки на керосинках. Роль холодильника выполнял чулан с незакрывающейся в стужу форточкой. Единственное окно кухни зимой покрывалось льдом. Даже черный соседский кот неохотно прыгал на каменный подоконник. Но какой же уютной показалась мне наша квартира по сравнению с тем, в каких условиях жили горожане. Полутемные со скрипучими половицами, заставленные сундуками коридоры бараков еле освещались; в плохо отапливаемых комнатах полуподвальных помещений, приспособленных под общежития выстраивались очереди на кухню и в туалет; старые, покосившиеся деревянные дома с провалившимися крышами, продуваемыми ветрами дворовыми туалетами и неработающими уличными колонками для воды доживали свой век. Несмотря на усталость, я постепенно привыкла к рабочей суете и безошибочно могла назвать сколько учебных зданий у каждого из Вузов, попавших в мой «квадрат», на какую улицу выходят окна их общежитий, как зовут комендантов и в какое время они обедают. Моя записная книжка пестрела адресами и фамилиями вперемежку с расписанием занятий и напоминала неряшливый дневник двоечника. К концу второй недели я поняла, что вполне укладываюсь в плотный график переписи. Оставалось одно белое пятно в районе улицы Волкова, там где справа и слева от трамвайной линии был глубокий овраг, застроенный с одной стороны каменными «хрущевками». С этими пятиэтажками я справилась за короткий срок. На противоположной стороне друг друга теснили деревянные дома и домишки. Я никак не решалась спуститься со склона, где растаявший снег обнажил земляные ступеньки, покрытые грязью. Выручить могли разве что болотные сапоги, а не мои ботиночки. Потому обзор неизвестной мне части города откладывался на «потом». Наконец, когда остался последний день, я собралась с духом и, прихватив с собой резиновые сапоги, практически, скатилась в овраг. Стряхнув пальто и варежки, я осмотрелась. Там наверху было шумно: чирикали воробьи и звенели трамваи, смеялись студенты, выбегая на улицу подышать после лекции, кряхтели и скрежетали машины. А здесь внизу – удивительно тихо, все движения людей и предметов казались нереально замедленными. Сугробы стояли высокими и сверкали белизной, как после обильного снегопада. Я невольно любовалась живой картинкой. Внимание мое привлек небольшой аккуратный дом, крыльцо и ставни которого были покрашены яркой краской, как на праздничной открытке. Я открыла блокнот и постучала в дверь. -Входите,- послышался голос,- там не заперто. За дверью стояла улыбающаяся хозяйка – седая , хрупкая женщина в длинном, вязанном платье. -Прошу Вас, девушка. Мы как раз с мужем самовар поставили. Давайте с нами чай пить! Я посмотрела на свою грязную обувь и растерялась. Прямо от порога тянулась бледно-голубая плетеная дорожка. Словно угадав мои мысли, Анастасия Александровна (так звали хозяйку) скороговоркой произнесла: -А ну-ка, скиньте Ваши сапоги-скороходы, да наденьте наши тапочки-носки, такие они теплые да мягкие. -Проходите, проходите, – услышала я голос хозяина,- здравия желаю. Будем знакомы, Анатолий Андреевич. Я посмотрела на часы с кукушкой. Стрелки показывали начало шестого. До шести необходимо было сдать папку в штаб. Заполнив необходимые графы в учетных документах, я собралась уходить и с любопытством озиралась по сторонам. Просторная комната напоминала музей народного творчества. Здесь все было сделано руками хозяев: подзорники, занавески, скатерть на столе, полотенца украшены вышивкой, вязаньем или аппликациями. В правом углу под потолком у иконы горела лампадка. На полках вдоль стены между книг стояли поделки из дерева. Мебель, как я выяснила потом, смастерил сам Анатолий Андреевич. На темно-коричневом карнизе над окном его рукой была вырезана надпись в виде пословицы: «Хлеб да соль ешь, а правду режь». Кукушка навязчиво напомнила мне, что премия больше не светит. -Да Вы угощайтесь, Людмилочка,- отвлекла от мыслей Анастасия Александровна,- вот пирог попробуйте с капусткой, а этот - с яблоками. Печка наша славная пироги печет, как в сказке. И от этих простых слов на душе стало так хорошо, как будто я вернулась в детство. А старики, ласково называя друг друга «Настенька» и «Толюшка», наперебой рассказывали забавные истории про детей и внуков и показывали фотографии из альбома. Я слушала их и думала: «Что же такое счастье? Комфортабельная квартира? Выгодное замужество? Высокооплачиваемая работа? Нет! Вот оно счастье – лучиками играет в глазах людей, проживших вместе шестьдесят лет в любви и согласии. А дом их на дне оврага – волшебный остров в океане мегаполиса».
26.12.09
Бибикин из автотранспортного
Сашка плелся в техникум нехотя. Было пасмурное апрельское утро. Рыхлый снег покрывал мерзлую землю и кое-где предательски сверкали стекляшки луж. Ноги Бибикина то и дело сколшьзили и разъезжались в разные стороны. Глаза зудели, хотелось спать. «И зачем только эти часы переводят?» – думал он. «Интересно, тот кто придумал это сам-то кем был «совой» или «жаворонком»? То , что сам Сашка был «совой» он не сомневался, потомучто до поздней ночи торчал у компьютера или телевизора. А вот утром вставал только с трех раз и то, если мать начнет сердиться. Обычно этой дорогой они ходили с попутчиком – Данилкой, но сегодня Данилку вызвали повесткой в военкомат, начинался призыв. Справа и слева от Сашки торопились студенты, Бибикин кивал знакомым, здоровался за руку, кто-то угостил егог сигаретой, но курить Сашка не стал, и без того тошно. На часах было восемь пятнадцать. Бибикин остановился недалеко от входа, поджидая однокурсников. - Слышь, Санек – горланил Костик приближаясь.- Новость слыхал? - Какую? - Малышку увольняют. (Так ребята звали про себя преподавателя Людмилу Петровну с тех пор, как однажды кто-то из них подслушал, как она звала свою собаку: «Айза, малышка, иди сюда!) - Почему? – протянул Бибикин, окончательно просыпаясь. - Она опять чего-то директору стремное сказала, – продолжал Костик. - А что именно? – поинтересовался Сашка. - Да про маленькую зарплату преподавателей вякнула не по делу. -Почему не по делу? Это же так и есть. Они только на две тысячи больше уборщиц получают, мне мать говорила. А она, Людмила Петровна в технаре больше двадцати лет вкалывает. - Ну и что! – возмутился Костик, который слыл среди ребят «блатным» , а потому всезнающим. –А чего она «отцу крестному» уши заливает.Подумаешь, бедная, меньше надо свою мелочь в церковь носить – она ни одно воскресенье не пропускает, сектантка. Бибикин посмотрел на Костика внимательно и тихо спросил - Ведь ты , Костян, крест тоже носишь? - Ну, ношу – сознался Бубнов.- Это мать хочет, чтобы я верующим был, а мне все одно! Костика любила вся администрация учебного заведения. Он хорошо учился, был назначен старостой группы и с удовольствием распивал чай с заведующей отделением Натальей Витальевной, высокой , крупной женщиной с низким голосом, любопытным лицом и седыми волосами раз и навсегда уложенными в учительскую «химию». Разговаривая с Костиком, Наталья Витальевна то и дело подливала чай и подкладывала на тарелку дорогие шоколадные конфеты и бутерброды, интересуясь, как ведут занятия преподаватели в их группе, о чем говорят, не ругают ли кого из администрации, не отпускают ли студентов раньше с занятий. И Костик все обстоятельно рассказывал, не упуская подробности, используя все свои недюжие актерские способности. В свою очередь Наталья Витальевна просила Анну Андреевну, классного руководителя Бубнова «закрывать глаза» на его частые опоздания и пропуски. Да и стипендию Костик получал на бюджетной основе исправно , в то время, как другие платили в год почти двадцать тысяч. Вскоре вокруг беседующих образовался круг из однокурсников. Последнюю новость все бойко обсуждали. - Я слышал, – сказал Андрей Замятин, что ребят из шестидесятой группы директор заставил написать служебную о том, что Петровна выпрашивала деньги у ребят на магниты для доски и файловые папки для контрольных заданий. - Ну и что? – спрашивали его ребята. – Так, Федоров написал, сосед директора по даче, а расписались все «блатные» из их группы. - Да ведь это же неправда! Она просила помочь тех, кто может. Ведь канцтовары им не выдают из экономии средств.- возразил Бибикин. - А че ты лезешь, Санек, че заступаешься, – прошипел угрожающе Костик, закрывая замок своей машины. .Родители Бубнова Костика работали на городском рынке и семья явно не бедствовала, а потому на третьем курсе единственному сыну купили старенькую «Волгу», чем тот очень гордился. Ребята обступили плотным кольцом споривших. Кто-то вступился за Сашку, кто-то за Костю – завязалась перепалка, как между болельщиками разных команд на трибунах футбольного матча. Никто не заметил, как в ход были пущены кулаки. Звонок раздался как нельзя вовремя, и взъерошенные подростки направились в здание. Под глазом у Бибикина красовался кровоподтек, губа Бубнова была разбита. Семестровые занятия студентов четвертого курса заканчивались зачетной неделей. Сегодня был вторник – зачет по английскому. Сашка сидел на крайне парте и глазел в окно. Преподаватель английского языка безнадежно пыталась обратить внимание слушателей на то, как работает двигатель, когда в бак залит плохой бензин, вдохновенно рассказывая это на языке Шекспира. Но для автомобилиста Бибикина слово « плохой» ни о чем ни говорило.Сашка вспоминал, как часто школьником приходил в городскую библиотеку, где работала его мать Светлана Николаевна, и часами перебирал книги, сидя на лестнице между стеллажами. Сашка любил читать. Когда он был помладше его интересовали загадочные истории и детективы, но повзрослев он начал читать стихи и понял, что это на всю жизнь. Он заучивал целые главы Лермонтова, знал стихи Тютчева и Блока, пел песни Высоцкого и Окуджавы под гитару отца. Взгляд Бибикина , рассеянно изучавшего дорожки перед техникумом задержался на женской фигуре , торопившейся к входу. Она явно опаздывала, но время от времени останавливалась, чтобы перевести дух и откашляться. Людмила Петровна, узнал Сашка. Он включил сотовый телефон – восемь сорок четыре. - Вот те на! – присвистнул Бибикин, – Опоздала Малышка! Раньше такого никогда не было. Утром Сашка не встречал её в автобусе, она приезжала рано, к восьми , за полчаса до начала занятий. - Ну, держись! Теперь уж к директору прямо в лапы. – подумал подросток. Он посмотрел на крыльцо и увидел улыбающегося директора, открывающего дверь перед преподавателем. - Что же Вы, Людмила Петровна опаздываете? Проходите в мой кабинет, я Вас давно жду- ласково говорил директор, загоняя женщину, как птицу в клетку и, посмотрев по сторонам, громко хлопнул дверью. Сашка заерзал на месте, попросив англичанку сходить в библиотеку за ручкой. Получив разрешение , он стремглав вылетел в коридор. В конце коридора шумела группа ребят, ждавших начала экзамена у Людмилы Петровны. Спускаясь по лестнице Бибикин услышал разговор: - Что нам теперь делать? - Ничего! Будем сдавать экзамен бэжэдэшнику Николаю Александровичу. - А Людмила Петровна? - Малышку отстранили! –звенел голос вездесущего Костика. Бибикин все понял и сжал кулаки, ему было до слез обидно за Людмилу Петровну. Как-то Сашка приехал в техникум рано и, скучая, сидел в коридоре. Он обратил внимание, как Малышка сражалась, открывая замок. - Саша, – услышал он жалобный голос Людмилы Петровны, – Ты не поможешь мне открыть? Бибикин попытался открыть дверь, но ключ никак не вставлялся в скважину. Сашка разобрал английский замок и вытряхнул добросовестно забитые кем-то из местных «изобретателей» спички. Дверь открылась. Сашка возвращался в кабинет с новой ручкой и чуть не сбил с ног шагавшую ему навстречу с пылающим красным лицом Людмилу Петровну. Чтобы как-то снять неловкость, Бибикин поздоровался и спросил: - У нашей группы консультация в среду будет? - Не знаю.- тихо ответила Людмила Петровна, затворяя за собой дверь. Сашка жил в том же районе, что и Людмила Петровна и часто видел, как она прогуливает « бородатую» собаку, стоит в очереди на рынке, или покупает газеты в киоске. Ему всегда хотелось помочь одинокой женщине. А тут и случай представился Как-то в автобусе Людмила Петровна созналась, что кто-то сломал замок её почтового ящика и пропадает корреспонденция. Сашка вызвался отремонтировать. Дверь ему открыла Людмила Петровна: -У меня сегодня день рождения, проходи! Будем по соседски чай пить. Сашка сидел в чистой и уютной двухкомнатной квартире Малышки с алой геранью на подоконнике. У ног хозяйки мирно спала собака окраса «перец с солью», мирно тикали ходики и с фотографий на книжной полке смотрели её сыновья-погодки : в маленькой рамке – в детском саду , а в большой – свадебные , с невестами. Сашка уплетал за обе щеки, явно удавшийся Малышке, пирог с картошкой и слушал, какие хорошие студенты были у Людмилы Петровны, как они готовили концерты, как выпускали стенгазеты… И ещё он узнал, что Людмила Петровна тоже любит поэзию и сочиняет стихи. Домой Сашка вернулся около девяти вечера. И на вопрос отца: «Где это он припозднился?» с гордостью ответил- «Помогал учительнице почтовый ящик ремонтировать!» Вторник близился к завершению. После занятий Сашка зашел в молочный магазин, загрузил пакет и заторопился к матери в больницу. У Светланы Николаевны была астма и каждую весну она подолгу лежала в больнице. Ежедневно посещать мать было обязанностью сына. Отец много работал и приходил с работы поздно и Бибикин младший полностью справлялся с хозяйством. Но сегодня к приходу сына отец был уже дома. На кухонном столе стояла недопитая рюмка водки. «Странно ,- подумал про себя Сашка,- батя давно уже не пил.» - Есть будешь?- спросил Евгений Михайлович сына, подвигая глубокую тарелку с винегретом. -Угу, – отозвался Сашка, кусая горбушку хлеба. - Как мать? - Ничего, привет тебе передавала. - Тебе звонил Данил. Что там у вас с экзаменами? - Людмилу Петровну отстранили, – признался Сашка. - Да, да, – протянул Евгений Михайлович. А ты знаешь, сын, она была нашей классной руководительницей. Меня со второго курса в армию забрали, а когда демобилизовался, снова в техникум вернулся. Мать моя тогда тяжело заболела , я остался дома один. Пришлось работать вечерами – грузил лес на железной дороге. Учебу запустил, хотели отчислять, да Людмила Петровна отстояла – оставили. Так , что я ей благодарен. Ты давай Долго не засиживайся за компьютером. Ну я пойду лягу, мне завтра с утра за руль. Сашка включил компьютер. Зазвонил сотовый. - Санек, – заверещал Данилка, – давай письмо директору напишем, не хочу я экзамен бэжэдэшнику сдавать У нас есть среда Завтра – консультация, а экзамен в четверг, а? - Ладно, – выдавил из себя Сашка, – Я подумаю.» и выключил телефон. Он сел к монитору и начал набирать текст: «Служебная записка: Я, студент группы ТМ-437 Прошу Вас…» Евгений Михайлович проснулся во втором часу от кашля. Он встал и пошел на кухню. В соседней комнате горел свет. Сын спал одетым. На столе устало мигал компьютер. Евгений Михайлович щелкнул мышкой и прочитал: «прошу Вас не отстранять преподавателя Людмилу Петровну от экзамена. Я за нее ручаюсь – она хороший человек! Не обижайте ее». Рядом лежал аккуратный листок, написанный от руки, как положено, текст был другим: Директору техникума Московцеву А.С. Служебная записка Я, студент группы ТМ-437 прошу оставить на время экзаменов преподавателя менеджмента Снегиреву Л.П.» После даты стояла подпись: Бибикин А.Е. Евгений Петрович отодвинул листок и выпрямился. Потом осторожно, на цыпочках подошел к кровати сына, раздел его, как в детстве ( отметив про себя в который раз, как он вырос) и бережно накрыв одеялом, вышел из комнаты. Отец Саши, измученный болезнью жены и тяжелой работой ночами плохо спал. Вот и сейчас он поставил на плиту чайник и долго стоял у окна, наблюдая за мигающими огнями шоссе. Потом негромко так, как будто продолжал давно начатый разговор сказал своему отражению: «У меня растет хороший сын». Было около пяти часов утра, когда Евгений Михайлович собрался на работу. Уже в дверях он немного помедлил, потом вздохнул и вернулся в комнату сына. Взял ручку и поставил на служебной записке рядом с подписью сына свою подпись и добавил : « Бибикин Е.М.». - Вот так вот, – сказал Бибикин старший, – Все правильно!» И вышел в ночь, впервые за долгие годы улыбаясь.
|
|
Родилась я в Казани. Закончила историко-филологический факультет Казанского университета. Работаю учителем. Еще в школьные годы начала писать стихи и посещать литературный кружок при ДК имени Саид-Галиева, который вели известные казанские писатели Геннадий Паушкин и Михаил Скороходов. Посещала театральную студию, которой руководил Виктор Зорин. Совместно с Ниной Козаевой (певицей, бардом, дипломантом нескольких музыкальных конкурсов) проводим литературно-музыкальные вечера. Закончила художественную школу при КИСИ. С 1999 года – активный член литературного объединения при Галерее художника Константина Васильева, которым долгое время руководил поэт, лауреат Литературной премии имени А.М.Горького Виль Салахович Мустафин. Посещаю литературную студию имени Марка Зарецкого при музее А.М.Горького. Пробую себя в переводах с татарского и французского языков. Печаталась в журналах «Идель», «Казань», «День и ночь» (Красноярск), «Русское литературное эхо» (Израиль), в коллективных сборниках стихов «Галерея» (Казань), «Золотая строфа-2009» (Москва). Автор двух поэтических сборников: «Бессонница» (2004), «У зеркала» (2006). Обладатель «Гран-при» III Международного конкурса русскоязычной поэзии в Израиле (2009).
СТИХИ ИЗ КНИГИ «БЕССОННИЦА»
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Из московской осени в Казань, Нашу белоснежную столицу, Я въезжаю, как на колеснице, В тихую заутреннюю рань.
Белый Кремль встречает на горе. Как сторожевые, минареты Охраняют сон картины этой, Полумесяцем встречая на заре.
Будто бы сама Сююмбике, Гордая казанская царица, Чуть позволила той башне накрениться К путникам, несущим мир в руке.
Наконец-то дома я опять! Даже снег здесь кажется белее. От него и вся земля светлее. Отдохну и в лес пойду гулять.
У меня в лесу – свои места. Ждёт меня всегда моя поляна. Белой-белой я её застану Этим утром тоже неспроста.
Из московской осени в Казань, Белую, заснеженную, еду По давно проложенному следу, Растворяя утреннюю рань…
ДОЧЕРИ ДИНЕ
Скорый поезд вильнул на прощание Своим длинным зелёным хвостом. Торопливые обещания, Позабывшиеся потом. Ты в столичной толпе затерялась бы, Только скрипки футляр за спиной, Как знакомый предмет, как маяк судьбы, Сквозь года узнаваемый мной. Скрипачей провожаю улыбкою, Лёгкий шарф на груди теребя. Почему-то девчонки со скрипками Так похожи порой на тебя…
ДОРОГА
Выбираю дорогу дальнюю, Ту, что к дому ведёт не спеша, Заповедную, исповедальную, Где сливается с небом душа, Где в пургу воют ветры бездомные, А весною поют соловьи, Где закатное солнце огромное Летом тянет ладони свои К одинокой, уставшей путнице, Завлекая своим лучом Ту монашку и ту распутницу, Не жалевшую ни о чём…
ТОПОЛИНАЯ МЕТЕЛЬ
Я тебе давно не писала. Так давай начнём всё сначала. Так давай опять о хорошем. Помнишь первую встречу в порошу?
Снег сегодня летит, как в тот вечер, На ресницы мои и на плечи. Но сегодняшний снег не хрустящий – Тополиный пух настоящий.
Не зима за окошком, а лето Тополиной метелью согрето. Вот откуда тепло твоё дышит – Быть июньским дано тебе свыше!
СТИХИ ИЗ КНИГИ «У ЗЕРКАЛА»
ОСЕНЬ
Уже макушка леса поседела. Последняя качается листва… И до меня той осени нет дела. А я, не утонувшая едва В её холодных, сероглазых лужах, Где дождевая серебрит струя, Поджав стрекозьи крылышки от стужи, Иду искать приют у муравья…
ПРОГУЛКА (Г.Р.Державину)
Расправлю плечи и походкой от бедра Пройдусь по шумному казанскому Бродвею… Игриво настроение с утра! Шучу- шучу! Я так и не умею. Да и зачем? Прошли мои года, Когда в короткой юбке щеголяла. И шпильки были острыми, когда По самой главной улице гуляла. Теперь мне сквер Державинский милей. (Я так сама назвать его решила) В тени знакомых липовых аллей Не раз по скверу тихому кружила, Где ОН на пьедестальной высоте Был погружён в свои большие думы И, подбирая рифму на конце Своей строки, «высоким штилем» думал…
БАБОЧКА
Летает бабочка в автобусе И слепо бьётся о стекло. Но что же всё-таки на «глобусе» Сюда бедняжку завлекло? Иль чьё-то платье цвета алого? Иль чьи-то нежные духи? А может, бедная, усталая, В мои торопится стихи?
СТИХИ ИЗ СБОРНИКА «ГАЛЕРЕЯ»
ЗАКАТ
В лесу темно. Лишь на верхушках сосен Стволы ещё Окрашены закатом. Чуть холодно, Хотя – не осень. И сосны-сфинксы Смотрят вдаль куда-то –
За горизонт, В сплошную бесконечность, Не шелохнутся, Будто бы не дышат, Как будто их Притягивает вечность. И что-то видят там, И что-то слышат
Как будто там, За розовым закатом, Открылись им Десятки измерений. Плечо Земли Округла и покато. Бретелькой скользкой Ниспадают тени.
Последний луч Прощается и тает, Доверив соснам Сторожить планету. Над миром вечность Вечная витает И не даёт Расслабиться поэту.
КРЫЛЬЯ (Марку Шагалу)
Парит над Витебском Шагал И Бэлла – рядом. Никто и не предполагал, Что просто надо Поверить в крылья за Своей спиною. Закрыть глаза И – с далью голубою Соединиться, слиться, Раствориться И наконец-то в птицу Превратиться, Парящую над родиной, Над домом, Над всем так вроде бы Знакомо-незнакомым. И если спины где-то Наши ноют, Быть может, крылья это За спиною Совсем изнемогают Без движенья. – Их тяготит Земное Притяженье…
33 СВЕЧИ Людмиле
Ты привезла мне тридцать три свечи Из тех краёв, от тех заветных стен, Где сердце так взволнованно стучит И ничего не требует взамен – Лишь только благодатного огня, Сошедшего с заоблачных высот. Теперь те свечи есть и у меня. Я их зажгу, когда придёт черёд. Я буду зажигать их по одной И медленно за пламенем следить. И будет тот огонь опять со мной, И будем мы с ним молча говорить, О чём не стоит воздух сотрясать, Пусть это будет только наш секрет, О чём другим совсем не стоит знать Ни через год, ни через много лет. Ты привезла мне тридцать три свечи Из тех краёв, из тех священных мест, Где сердце так взволнованно стучит, Что слышно камню каждому окрест.
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ
НОСТАЛЬГИЯ
Туда! Туда! Хочу туда, Где гладь озёр синее неба, Где быль сплетаются и небыль И помнит чистая вода Меня девчонкой босоногой, Веснушчатой и озорной, Не знающей, что есть покой И есть ошибки в жизни строгой. Там с детством встретиться дано. Там небо в озеро ныряло. Переливалась и сверкала Монетка, падая на дно. Витали бабочки-мечты В высоких зарослях рогоза. И пучеглазые стрекозы За мной следили с высоты. Туда! Туда хочу опять, Где память светлая осталась, Чтоб ненадолго, пусть на малость, Но откатилось время вспять…
ЗАКЛАДКА
Лист осенний жёлтой брошкой Воротник украсил мой. Пофоршу я с ним немножко, А потом вернусь домой, Положу в блокнот – закладкой, Где стихи мои живут. Станет листик гладкий-гладкий. Ты найдёшь его вот тут – Между чистою страницей И исчирканным листом. Был он бабочкой и птицей, Стал… закладкою потом
ВВЕРХ ПО СПИРАЛИ
Живёт человек, живёт и не ведает, Когда же его призовут небеса. А там, наверху, жизнью нашей заведуя, Кто-то возьмёт – разомкнёт полюса.
Цепь разорвётся, как ниточка тонкая, Вверх по спирали спружинит душа, Чистая-чистая, звонкая-звонкая, Мир с высоты оглядит не спеша,
Будто прощаясь с земными красотами, С тихою речкою и с васильком, Будто прощаясь с земными заботами Вечно о чём-то или о ком.
Сколько их в небе меж звёздами мечется, Душ, отошедших от нашей Земли? Дружат они там с Большою Медведицей И провожают рукой корабли.
ИЕРУСАЛИМУ
Прощай, прощай, святой Ерусалим! Твои огни остались за спиною. Как хорошо, что ты в душе со мною! Хоть памятью, но всё-таки храним.
Твой светлый лик меня заворожил – Блеск куполов и строгость минаретов. Как удивительно переплелось всё это… Но удивительней, что сам Христос здесь жил!
Вот тут ходил, где я теперь хожу… Вон там сидел, под ветками оливы… Их охраняют стены бережливо. И я на стену руку положу
И растворюсь с историей библейской… И окунусь в такую глубь веков, Где Иисус водил учеников По выжженным дорогам галилейским.
Где трижды сатана вопрос изрек, Коварный и опасный искуситель. И трижды отвергал его Спаситель: «Не хлебом жив единым человек…»
Где нёс Он Крест, и падал, и вставал, И выше на Голгофу поднимался. Где след ноги его живой касался И веру человеку придавал.
Где главная молитва «Отче Наш…», Как вечный мост над бурною рекою, Соединила человечество с тобою И охраняет, словно самый верный страж.
Нельзя «приехать» в Иерусалим – В него «восходят» тихо по ступеням, И преклоняют перед ним колени, И голову склоняют перед ним…
Священная Земля – Ершалаим…
Иерусалим – Казань 2009г.
РАКУШКИ
Морской прибой мои ласкает ноги, Шумит волной и просит не спешить. – Когда ещё сведут сюда дороги, Которыми приходится кружить? Выбрасывает под ноги ракушки На память о заморском декабре, Чтобы смешные эти погремушки Воспоминанием потом служили мне О тёплом крае, где смеётся лето Весёлою девчонкой круглый год, Которое не хочет знать, что где-то От холода, ветров и непогод Зимою вьюжной греется Россия У печки, у камина, камелька. Как в инее леса её красивы! Как подо льдами прячется река… И как однажды утром у оконца Зажмурюсь вдруг от яркого огня – То сквозь морозное стекло струится солнце, Пронизывая стрелами меня. Я рядом положу свои ракушки – В них лето, солнце, море и прибой, И озорные рыжие веснушки, Зачем-то так любимые тобой…
Ашдод – Казань 2009г.
* * * Вилю Мустафину
Усади меня в светлой кухне, Угости ароматным чаем. Видишь: в окнах уже набухли Почки клёнов, весну встречая. Скоро будут трещать сороки, Обживая сорочьи гнёзда. Я свернула к тебе с дороги, Забежала случайно просто. Просто так, без нужды и дела. Просто так, без какой-то цели. Просто видеть тебя хотела С той далёкой шальной метели, Когда всё февралём кружило И гудело в проёмах гулко. Ворожила метель, ворожила, Заметая все закоулки. Но согрела твоя обитель. Помнишь: пили чай, обжигаясь? И смотрел со стены Спаситель, Уголками губ улыбаясь.
июль 2009 г.
ТЕЛЕФОН Памяти Виля Мустафина
Ещё не стёрт твой номер в телефоне – Нет-нет, да и мелькнёт среди имён, Где ты живёшь – как все на общем фоне, Но просто разомкнулась связь времён. Как будто ты ещё на Валааме Блуждаешь средь заброшенных скитов. Вот душу отведёшь и снова с нами Ты спорить и беседовать готов. И только телефон незримой нитью Земное и небесное связал. Всё кажется – услышу по наитью Вдруг голоса знакомого металл…
октябрь 2009г.
|
|
Крымские татары, или Привет от Сталина! Нескромное обояние коррупции, или Почему у нас дают и берут взятки?
Родилась 6 июля 1959 года в деревне Красный Яр Зеленодольского района Татарской АССР. Жила и училась в поселке Васильево под Казанью. Первая публикация – стихи в газете «Комсомольская правда», 1972 год. Окончила историко-филологический факультет Казанского университета (факультет журналистики). Работала в районной газете «Зеленодольская правда», в республиканском ежеденельнике «Молодежь Татарстана». В 1990 году была награждена премией Союза журналистов Республики Татарстан имени Х.Ямашева за серию публикаций о возвращении крымских татар на родину. Из этого цикла позднее родилась публицистическая книга «Крымские татары, или Привет от Сталина!». Первая книжная публикация – книга «100 историй о суверенитете». Казань, «Идел-Пресс» (2000, 2001 – второе издание). Неоднократно публиковалась в центральной и республиканской периодике: «Журналистика и медиарынок», «Идель» и «Ялкын», «Татарстан яшьларе» и «Известия Татарстана». С 1995 года являюсь главным редактором газеты «Казанские ведомости». За это время газета победила в республиканском конкурсе «Хрустальное перо-98» в номинации «Самая читаемая городская газета». В 1999-2003 годах газета становилась лауреатом Всероссийского конкурса «Вся Россия». В 2001 году я стала лауреатом республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Лучшая публикация года» за цикл статей под рубрикой «100 историй о суверенитете». Материалы рубрики переработала в книгу с одноименным названием, но видоизмененным содержанием. В настоящее время работаю над публицистическими циклами «Часы истории», «Нескучный гость» и «Музей детства в Казани», надеюсь, они тоже вырастут в отдельные книги. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Заместитель председателя Союза журналистов Татарстана. Председатель Общества любителей словесности «19-е октября».
|
|
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ
Родился 29 июля 1945 года в Казани в семье военнослужащего. В 1962 году окончил среднюю школу и уже через месяц сдал вступительные экзамены в общевойсковое военное училище в Саратове. В 1965 году, после окончания училища, был назначен на должность командира взвода в город Арзамас-16 (нынешний Саров), где прослужив четыре года, в 1969 году получил разрешение от командования на продолжение учебы по военной специальности и поступил на военно-инженерный факультет Высшей школы МВД СССР в Москве.Через четыре с половиной года по распределению был назначен начальником инженерно-технической службы одной из войсковых частей в Западной Сибири. При исполнении воинских обязанностей получил тяжелую травму ноги – далее серия операций, ампутация, инвалидность. Более двадцати лет после этого работал на различных инженерных должностях. На сегодняшний день издал пять стихотворных сборников. Первый – под названием «Раифа», одноименный с поэмой, включенной в него, – вышел в 2001 году. Михаил Тузов уделяет много внимания общественной работе, являясь старостой литературного объединения при музее А.М.Горького имени Марка Зарецкого, которым руководит казанская поэтесса Алена Каримова. Посещает литературное объединение «Арс» при Казанском университете. В октябре 2009 года награжден Почетной грамотой Министерства культуры Татарстана за большой вклад в развитие литературы. |



 Родилась я в Казани. Окончила Казанский университет по специальности химик-органик. Работала много и продуктивно в науке, на производстве и в образовании.
Родилась я в Казани. Окончила Казанский университет по специальности химик-органик. Работала много и продуктивно в науке, на производстве и в образовании.